Марина КУДИМОВА. А. Солженицын: судьба, роль, образ в меняющемся времени
Читать дальше 'Марина КУДИМОВА. А. Солженицын: судьба, роль, образ в меняющемся времени'»
Читать дальше 'Марина КУДИМОВА. А. Солженицын: судьба, роль, образ в меняющемся времени'»
Прозрение всё же наступило, и открылась глубина мудрости Солженицына.
В своей нобелевской речи Солженицын заявил: «Работа художника не укладывается в убогой политической плоскости, как и вся наша жизнь в ней не лежит» [Солженицын 1995: 224]. Это было сказано в ту пору, когда Солженицын воспринимался сквозь призму диссидентства. Как оказалось, это было ложным представлением, на котором погорел и Запад, принявший его за традиционного диссидента и посчитавший, что за рубежом Солженицын станет бороться за политические и социальные свободы. Он и боролся, но не как антикоммунист, или про-капиталист, или социалист. Он боролся, как верующий, как воин, как Георгий Змееборец. Вот весьма знаменательный отрывок из письма Солженицына к Рейгану, в ответ на приглашение в Белый дом: «Я не располагаю жизненным временем для символических встреч. Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идёт о ланче для “советских диссидентов”. Но ни к тем ни к другим писатель-художник по русским понятиям не принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный ряд» [Солженицын 1995: 17].
ЛИЦО ВОДЫ
Ирина Машинская. Делавер.
М.: «Книжное обозрение» (АРГО-РИСК), 2017
В начале книги – справка из «Британики»: Делавер – река, которая частично является границей между штатами Пенсильвания и Нью-Йорк. Именно в том краю и живёт автор. Одноимённый цикл стихотворений помещён на одной из последних страниц; всё предыдущее словно бы готовит нас к нему. Вода, волна, речные приметы не раз встречаются у Машинской, – видимо, выступая символами течения жизни, текучести, «утекаемости» её, а с другой стороны – символом спокойствия, тишины, вечности, памяти как бессмертия: стихи будто покачиваются на зыбкой поверхности широкого водоёма, они негромки и грустны. а как ещё можно говорить об ушедших – своих родных и близких? Их тени я вижу на протяжении всей книги. «Когда человек умирает, начинается новая с ним жизнь…»; «И потом научаешься обходиться без человека / без словечек его / без примочек привычек…»; «Ты снился мне / смотрел и улыбался / И как при жизни было непонятно / о чём нам говорить…»; «Тот кто умер домой не летит в самолёте со мной / он вернётся, но только отдельно летит / как ни в чём не бывало встречает /и до смерти рад раскрываемым рамам…» Но разговор поэт ведёт не только о своих утратах; в обращённых к дочери строках она выражает всю глубину своей любви, глядя в неизбежное будущее – то есть глядя на себя глазами родного человека.
 Одно из стихотворений Александра Кондратьева называется «В доме Отца Моего обителей много…». Эти слова из Евангелия от Иоанна могут быть прочитаны как эпиграф ко всему творчеству поэта. Цитируя Евангелия, Кондратьев стремился сказать о своем понимании вселенной – о многообразии миров. Многообразие он понимал мифологически. Литература Серебряного века – это литература мифотворчества, а Кондратьев в своих стихах, рассказах, романах оживлял миф, одушевлял его, приближая древность к современности.
Одно из стихотворений Александра Кондратьева называется «В доме Отца Моего обителей много…». Эти слова из Евангелия от Иоанна могут быть прочитаны как эпиграф ко всему творчеству поэта. Цитируя Евангелия, Кондратьев стремился сказать о своем понимании вселенной – о многообразии миров. Многообразие он понимал мифологически. Литература Серебряного века – это литература мифотворчества, а Кондратьев в своих стихах, рассказах, романах оживлял миф, одушевлял его, приближая древность к современности.Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
– Повитель! Повитель!
Как это клички прирастают к людям? И почему «повитель»? Наверно, из-за кучеряшек, которые выбивались из свежезаплетенных кос и разбегались по лбу и лицу.
У мамы на Юлины волосы терпения не хватало. Иногда она даже шлепала Юлю по голове «ежовой» щеткой с металлическими зубцами. Зубцы можно вынимать из резиновой подушечки и вставлять обратно. Когда мама застала Юлю за этим занятием, ор был нещадный:
– Остригу наголо!
Уж остригла бы, чем так мучить! Но ежеутренние пытки с выдиранием целых прядей не прерывались.
– Больно! Больно! – верещала Юля.
– Не больно! Не больно! – вопила мама.
Читать дальше 'Марина Кудимова. Пискля в бочке. Отрывок из романа'»
* * *
Погляди напоследок на книжные эти полки,
на штрихи на картонке, закладки, тайные метки;
по глухим переулкам летят упругие волки,
дребезжат осколки, распахиваются клетки.
Всё, что раньше грело, больше не пригодится.
Не блажи – ему не впервой ошибаться дверью.
Вот толпа у ворот. «Гряди, – кричат, – голубица!»
И она грядёт, и летят кровавые перья.
Пожелай мне смерти, дружок, пожелай мгновенной.
Что в кармане бренчит монетою неразменной?
Ключ от райских врат, уздечка, полтина, медный
обол. Всё слышней торжествующий вой победный.
* * *
Наливается пламенем алый шар
и плывёт, качаясь, над головой:
это плавится звонкий тифозный жар
давней выдержки вековой.
На весу подрагивает блесна,
застит взгляд горячечная слюда,
и приходит яростная весна
в разорённые города.
Впрочем, эта весна ненадолго: не
оборачивайся, не путай шаг,
там на площади полночь и дом в огне,
и колышется тусклый флаг;
там раскачивается бетонный мост,
там раскручивается змеиный хвост,
и растерянный город, слепой от слёз,
поднимается во весь рост.
И из черепа этого октября
выползает кольчатая змея,
говорит: «это смерть, это смерть твоя»;
это жизнь, это жизнь моя.
* * *
Хороводы без конца,
каждый третий – без лица,
в небесах упругий свиток
разворачивается.
Тает хрупкая стена,
зазвенели стремена,
нотной грамоты китайской
реют птичьи письмена.
Кто писал слова огнём
в доме сумрачном моём?
Видишь, бархатные твари
устремились в водоём.
А другие из воды
вверх глядят, разинув рты;
распускаются на склонах
небывалые цветы:
в нежных рыльцах копят яд,
в душу пристально глядят,
голосами человечьими
о чём-то говорят.
Крыльев низкое круженье;
тихо хрустнула печать:
он пришёл без приглашенья
вашу детку покачать.
* * *
Дело к ночи. Сбегают улицы
в темноту под уклон к воде
(раз волнуется, два волнуется –
дожидается; быть беде).
Вновь зима, и подходим молча мы
к остывающему костру.
Видишь, стяги с крюками волчьими
развеваются на ветру?
Слышишь, песня в ночи доносится,
нам знакомая с давних пор;
из котельных на волю просится,
рвётся тонкоголосый хор.
Тянет дымом из переулочков,
начинается торжество.
– Для чего тебе эта дудочка?
–Ты сама догадайся, дурочка;
кто ж признается, для чего.
Сломанными флажками сверху сигналит птица.
Кто её разумеет? – нет никого окрест.
Только над прудом ива – будто пришла топиться.
Ива стоит и плачет, чёрную землю ест.
Бездна небес глядится в тёмный нагрудник пруда,
видя в нём только птицу, рваный её полёт.
Небо само не может жить ожиданьем чуда.
Ива стоит и плачет, чёрную воду пьёт.
Что у неё за горе? Кто её здесь оставил?
Но прибежит купаться – выгнется и вперёд! –
тонкий и голенастый, с виду как будто Авель.
Ива ему смеётся, – кто её разберёт.
 Отхожу от окна, оставляя там серый февральский день, дождливый и ветреный.
Отхожу от окна, оставляя там серый февральский день, дождливый и ветреный.
Возвращаюсь через час – в зиму.
Дождь обернулся снегопадом, перетёк легко и незаметно, и не понять, откуда и куда падает снег. Из ниоткуда – в никуда.
Выйти бы в старый парк, постоять под огромными лапчатыми туями, укрытыми снегом, побродить по дорожкам, оставляя первые следы на девственном снегу, ни о чём не думая, никуда не спеша – просто так. Из ниоткуда в никуда.
Предисловие из книги Инкогнито: Стихи прошлого века. — М., «Золотой век», 2001 и стихи разных лет
И книги имеют свою судьбу… Всегда думала, что в этом отвлеченно-древнем афоризме не столько реального смысла, сколько филологической красоты и изящества. Оказалось, что в России даже отвлеченное и древнее становится сущим и жжет как пекло. Эта книга (а точнее – ее первая половина) почти десять лет назад была «сдана в производство» в издательстве «Советский писатель» и затем выкрадена буквально из-под печтаного станка неким злоумышленником, имя которого мне вполне открылось совсем недавно. По странному стечению обстоятельств узнала я о том, что рукопись исчезла, утром 19августа 1991 года. Позвонил мой редактор Виктор Сергеевич Фогельсон и сказал: «Произошло ужасное. Вы знаете?» Я: «Куда уж как не знать! Танки на Красной площади…» В ответ после долгой паузы: «Если Вы стоите сейчас, то сядьте… Исчезла Ваша книга… Оба экземпляра: и сданный в набор, и тот, что был у художника. Я прошу, я умоляю Вас, срочно принесите стихи, мы сами перепечатаем их – и книга пойдет молнией. Иначе у невинных людей полетят головы…»
Последний аргумент на фоне того августовского утра выглядел сурово. Я, кажется, пообещала появиться в редакции дня через три. А через три дня началась другая жизнь. Под окнами моего дома кучками в сторону Лубянки шли возбужденные люди. Напротив, на Старой площади допоздна из ворот ЦК КПСС выезжали наспех груженные грузовики, с которых белыми стайкамит слетали какие-то бумаги, справки, циркуляры. Таким замусоренным это пространство перед грозным зданием я не видела никогда. А на площади имени главного чекиста самого чекиста с удавкой на шее разбушевавшаяся толпа пыталась стащить с пьедестала. Было во всем этом нечто грандиозно античное и беспомощно жалкое. Какое отношение все это имело к моей книге, я не знала. Но я совершенно потеряла интерес к ней, да и к печатному станку – на долгие годы.
За это время не стало государства, в котором я имела несчастье и счастье родиться. Угасли и ушли в иной мир мои незабвенные родители, трагически погиб первый муж. Скончался мой строгий и замечательный редактор, исчезло в писательских распрях и само издательство. Остались стихи. Неспешно прибавляясь в рукописном объеме, они изредка мелькали в периодике, не вызывая прежних острых ощущений радости от печатного станка и читательского отклика. Что-то сломалось в поэтическом механизме, ибо с уверенностью можно сказать, что слово напечатанное, отправленное к людям, должно поднимать и радовать литератора так же, как слово, написанное им в минуту вдохновения. Кажется, лучше всех справедливость этого понимал Пушкин.
Сегодня мне хочется быть услышанной. И я даже смею думать, что рукой несчастного моего злоумышленника тогда инкогнито заведовала сама Судьба. Все, что происходило и произошло со мною и с нами в конце века, теперь легло на страницы этой книги, как мне представляется – единой в своем ощущении – от 85-го до 00 года. То есть, далее начнем с нуля. Как говорили древние, ab ovo.
20.12.99
______________________
БОЛЬНОЙ ПЕЙЗАЖ
И по мере того, как морская сжимается пена
до размеров тебя, и снимается с глаз пелена,
ты становишься видимым издалека, постепенно,
и настенная брань тебе больше в “00” не видна.
Ты уже не кузнец, а кузнечик семейного счастья
с деревянной избой и резьбою снегов взаперти
сине-серых пространств, где такие готовились страсти
по колено, по пояс и пьяному не перейти.
Ни пути, ни распутья у этого ига – в финале.
Ты лежал под забором, не ведая даже о том,
что тебя распинали, пинали и просто пеняли,
мол, страдает барчук несварением и животом.
И по мере того, как морская колючая пена
покрывала твой дом, расплывалась в твоих простынях,
и двоилась, и билась, и двигала взглядами стены,
ты двоился, троился и плакал, как мальчик, в сенях,
в снах на сене, в каком-нибудь доисторическом мифе,
или в грифе “секретно”, где плачут от страха слова,
где за семьдесят лет реализма о русском Сизифе,
запряженном в пейзаж, потерялась навеки глава.
Голова не болит, но земли твои ноги не чуют
и ночуют не страхи, и потчует не белена,
и по мере того как болезнь постепенно врачует
то, что было душою, спадает с нее пелена.
Пелена – это плен и настенная роспись сортира
или в постмодернистской России начала конца
это только метафора послепотопного мира,
осторожность магнита в разрезе живого лица.
1991
Свод туалетной бумагой обернут,
тает от влаги тяжелая тишь.
Что же ты дождик, небесный оболтус,
праздно в жестяные лужи стучишь?
Ты ли не почвенник где-то в изгнанье,
ты ли не западник в русской глуши,
что ж охраняешь ты павшее зданье
и разрушаешь его этажи?
Крыша поехала влево и вправо
ломкие струи шуршат как фольга
и не дает геростратова слава
спать по ночам – вот и вся недолга.
На таратайке протащишься мимо
сонных ментов и ворованных слов:
ГКЧП – вот и вся пантомима
русского спора из разных углов.
Был бы улов миражей и видений,
дождик не ныл, не царапалась мышь,
тут и явился бы праздничный гений,
тут и пророк бы сгодился, глядишь.
Ишь, как опять затоварило небо,
как от чахотки – избыточна речь.
Значит опять тебе тупо и слепо
это пустое пространство беречь.
МЕТРОНОМ
Если вдруг за смещеньем двойным и тройным
новым зреньем, почти марсианским зрачком
ты увидишь себя, и огнем нутряным
опалишь метроном, или ляжешь ничком
на текучее время, на рваную гладь,
чтобы было коросту легко отдирать.
Если вдруг индульгенции выданы зря
и на всех не хватает белил и чернил,
это значит что вечером ты без царя
в голове обезумевшей все сочинил.
Или в черные маги тебя произвёл
на крапленой бумаге сплошной произвол.
Вол истории вышит, как бы по канве,
по траве-мураве, по больной голове,
и в почти неживые воловьи глаза
демиургом вмонтированы образа.
Я смотрю на тебя и не вижу Христа.
В центробежности этой смурной и чумной
вырастает пространство за гранью холста
и ползет, как гадюка, по свету за мной.
Изо всех невозможных на свете музык
выбираю я – зык, и язык тороплю,
и срывается небо больное на крик,
приближая пространство земное к нулю.
Я люблю этот темп, этот нимб, этот плач!
Ты незряч, но у злачного мака в груди
отдыхаешь, завернут в пурпуровый плащ,
и палач с метрономом – еще впереди.
ДВОЙНОЕ ЗРЕНЬЕ
Да здравствует кровь на лафете,
холодная грязь на паркете,
голодные птицы и дети,
классический русский разор, –
и с антиевангельской нотой,
поятой, побитой, потертой
ты все же вливаешься в хор.
Хоральное иго изгоя
избыть никому не дано.
Из гнева, из горя, из гноя
ты молча осядешь на дно.
Поэты твои – не пророки.
Пророки – не имут стыда.
Им чудятся в сжатые сроки
то молот, то крест, то звезда.
От горя раздвоено зренье,
зрачок упирается в мглу.
И все же земного спасенья
ты ищешь в медвежьем углу,
в тылу у чужих равновесий,
в пылу у безличных страстей,
у сиро распластанных весей
и празднолихих скоростей,
где ты не посол, а послушник,
и жизнь твоя сходит за так,
за мятый в карманах полушник
и стертый в разорах пятак.
Итак, на исходе столетья
в любимой до смерти стране
да здравствует кровь на лафете
по вашей и нашей вине.
КОД РОЗЫ
Когда клубнику теплую во рту
лелеешь нежно, о, когда клубнику
во мне преображаешь в наготу,
в негоцианство, в негу, в эту книгу
я чувствую(сь) не женщиною, нет,
и не змеей, и не лозою даже,
я ощущаю превращенье в свет
самоубийства белизны и сажи.
Шмель золотой, в пушисто завитой,
во мгле стоустой, устали не зная,
проходит без единой запятой –
и фраза открывается сквозная.
Мой пленный текст, в нем зашифрован код
всесильной розы нового ковчега,
от Ноева отличного, как вход
от выхода из чрева человека.
При чем тут код и опыленье пчел,
при чем тут розы или фразы эти,
что Фрейд сказал, а Ленин не учёл –
и моль изъела хвост тысячелетья,
я не пойму. Но если Эрос ал
и если роза – это вид угрозы,
то кто тогда навек зашифровал
и высвободил дух из-под наркоза?
И кто тогда рукой твоей водил,
и кто платил за прегрешенья эти –
при свете обезумевших светил
над веком умирающим в кювете?
ЩЕЛЬ
Это плоть, и это плохо плоти
на невыносимом рубеже
той души, которая в полете
не душа, а мания уже.
Не страна, а Ноева ковчега
многоуменьшенная модель,
где скрывает облик человека
вышеупомянутая щель.
Суть вещей не в вещем распорядке,
не в слепой казарменной возне,
если мель оттаптывает пятки
воровской и прочей новизне.
Ель стоит, надвинувшись на тучу,
словно бы и вправду тяжела
эта хватка темная, паучья,
эта неизбежная игла.
Мгла идет из щели все свободней,
энтропия плачет по нулю.
Гнев Господний. Голос преисподней.
Свет, продетый в мертвую петлю.
ДЕВЯНОСТЫЕ
«Вагоны шли привычной линией..»
А. Блок
Исчезли – желтые и синие.
В зеленых плакали и пели
продрогшие, невыносимые
простонародные свирели.
И флейты провожали жаляще
челночные, душе угодные
одежды из турецких залежей
в те девяностые, свободные.
Одни намылились отваливать,
а ты пытался в это встроиться.
И я еще могла отмаливать
тебя у Господа на Троицу.
И я еще могла надеяться
в Егорьевске у храма Божия,
что мной посаженное деревце
тобою будет обихожено.
Свобода била неуверенно
кому – под дых, а многим – мимо.
Но музыка была потеряна
осталась только пантомима.
***
Этот мальчик, порезавший нежные вены,
этот в сумерках века влюбленный герой,
непорочный, как Блок, как де Сад – откровенный…
Но – гора никогда не сойдется с горой!
Только лет через двадцать, а может, и больше,
ты услышишь сквозь зуммер отчаянный крик,
что любовь не сгинела, как вечная Польша!
Так порочная Клио развяжет язык.
И сквозь тысячу русских соборов и башен,
и сквозь сто иудейских великих пустынь
ты увидишь, что слеплен из пыли и брашен
этот мир, погруженный то в ужас, то в синь.
И почувствуешь там, на другой половине
то ли космоса, то ли бездонных Бермуд
как колотится в черной безжизненной стыни,
твое сердце, обвитое тысячью пут.
И восстанешь, как сфинкс – из песка или глины,
или вовсе – из боли, тоски, черноты…
И поймешь, что как прежде, чисты и невинны –
и лукавая вечность, и мальчик, и ты…
ПРИМЕТА
В четырнадцать – так одиноко,
что есть примета:
ты по уши влюбилась в Блока
“не как в поэта”.
И сны уже полны желаний,
и мир сквозь щелку
продрался, как сосок твой ранний –
сквозь пламя шелка.
О, эта блузка в ярко-алых
цветах напасти…
Что знаешь ты о небывалых
любви и страсти?!
О безответности, о боли
в такой же драме,
о юной девочке – Любови,
Прекрасной Даме?!
…И не поможет даже гаджет,
и не пытайся!
Отдашься первому, кто скажет:
“Да брось…отдайся…”
В тебя железа и бетона
вопьются скрепы ,
пока поймешь, что жизнь центонна,
читай – нелепа.
Бери ее с любого бока –
не вдруг проснешься!
…А после прочитаешь Блока –
и ужаснешься.
***
Дует ветер форштадский,
задевает крылом
то военный, то штатский
облик где-то в былом.
Мы с тобой часовые
друг у друга в судьбе,
что дала чаевые,
то ли мне, то ль тебе.
Горстка мелочи, пепла
от былого огня,
чтобы память ослепла
вплоть до этого дня.
До Урала, что мелок,
до суда, что глубок,
где остался от сделок
лживой парки клубок.
Там не тень – Деифоба,
что водила в Аид,
у знакомого гроба
в школьной форме стоит.
***
Она стояла на седьмом этаже
у распахнутого окна.
И, как рассыпанное драже,
была ее дрожь видна.
Она проглатывала нембутал
и запивала вином.
И лист сиреневый трепетал
в неверном огне ночном.
Она дышала в трубку всю ночь,
ни слова не говоря…
И ангел силился ей помочь
в преддверии октября.
А на рассвете спросила, где ты,
а я не знала – где ты.
Но вдруг завяли твои цветы,
предвестники немоты.
Она сказала мне: Сорок лет
веду с тобой этот бой…
А я отправила время вспять,
ответила: Сорок пять…
Она вздохнула: Ну все… и вот
победа твоя близка,
уже снотворное не берет
с полфляжкою коньяка.
…И вдруг на меня из ее окна
надвинулась глубина.
И стала жалость моя нежна,
отчаяния полна.
Я так любила тебя в ту ночь
неслышно, издалека,
пока меня уносила прочь
невидимая рука,
и нерожденную нашу дочь
баюкали облака.
…Тех лет и бед провалился след.
Но, ветреницы судьбы,
слепые мойры идут на свет
из интернеттолпы.
И мне приносят такую весть,
ну просто ни встать, ни сесть.
Мол, генерал, боевая стать,
нарисовал свой дом,
чтобы без памяти выживать.
И научился в нем вышивать
гладью или крестом.
Он никогда не узнал о том,
как у распахнутого окна
стояла его жена.
Как бездна еë была мне видна,
отчаяния полна,
да крестиком спасена.
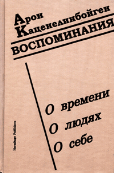 Книга воспоминания Арона Каценелинбойгена охватывает весь обширный период его жизни, начиная с детских лет и заканчивая годами в США. Люди, события, факты, имена известных деятелей науки, культуры и искусства, отношения и характеры, судьбы и лица – всё, что повстречалось у него на пути, нашло отражение в книге. Нелицеприятные, порой, оценки друзей и близких не были заретушированы в повествовании. Арон пожелал отразить всё так, как он видел, понимал и чувствовал – без прикрас. Он пожелал остаться честным и принципиальным в своих суждениях и после своего ухода. Эта книга как нельзя точно отражает его собственную суть – кем он был и каким он был и остался в памяти тех, кто знал его близко. Книга была завершена незадолго до его смерти. Она стала завещанием его внуку Иосифу – завещанием следовать самому себе всегда и во всём.
Книга воспоминания Арона Каценелинбойгена охватывает весь обширный период его жизни, начиная с детских лет и заканчивая годами в США. Люди, события, факты, имена известных деятелей науки, культуры и искусства, отношения и характеры, судьбы и лица – всё, что повстречалось у него на пути, нашло отражение в книге. Нелицеприятные, порой, оценки друзей и близких не были заретушированы в повествовании. Арон пожелал отразить всё так, как он видел, понимал и чувствовал – без прикрас. Он пожелал остаться честным и принципиальным в своих суждениях и после своего ухода. Эта книга как нельзя точно отражает его собственную суть – кем он был и каким он был и остался в памяти тех, кто знал его близко. Книга была завершена незадолго до его смерти. Она стала завещанием его внуку Иосифу – завещанием следовать самому себе всегда и во всём.


