Елена СЕВРЮГИНА. На обратной стороне зеркала. Делаланд, Надя. Один человек. Пьесы.
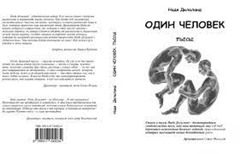 Небольшой сборник пьес поэта, педагога и культуртрегера Нади Делаланд называется «Один человек». Если переставить слова местами – можно получить один из ключей к разгадке мистического авторского замысла. Человек один – причём всегда, даже когда он с людьми. Одиночество – его абсолютно нормальное состояние, потому что есть вещи, о которых невозможно рассказать другим. И только в диалоге с самим собой открываются высшие истины и познаётся природа вещей.
Небольшой сборник пьес поэта, педагога и культуртрегера Нади Делаланд называется «Один человек». Если переставить слова местами – можно получить один из ключей к разгадке мистического авторского замысла. Человек один – причём всегда, даже когда он с людьми. Одиночество – его абсолютно нормальное состояние, потому что есть вещи, о которых невозможно рассказать другим. И только в диалоге с самим собой открываются высшие истины и познаётся природа вещей.
В цикле представленных историй персонажи в их традиционном понимании отсутствуют. Мы не знаем, сколько их на самом деле, и прошли ли они проверку на подлинность. Что вообще подлинно, если некоторые герои (например, девочка и мальчик из пьесы Дуралекс) даже не успели родиться, а какие-то и вовсе уже умерли, либо скоро умрут.
Всё, что происходит на глазах читателя – моноспектакль с глубоким погружением в тёмные тоннели подсознания. В те самые колодцы Мураками, выйдя из которых, человек становится чем-то иным, принципально отличным от прежней ипостаси, своим альтер-эго. Суггестивность здесь зашкаливает, периодически отсылая к традициям авангардного театра в духе Гийома Аполлинера. Никогда нельзя точно установить, кем по сути является то или иное действующее лицо – самостоятельной субстанцией или проекцией чьих-то навязчивых идей, фантомом. Очень точно высказался по этому поводу в предисловии к пьесам русский поэт и прозаик, эссеист и литературовед Алексей Макушинский, сказав, что у Нади Делаланд «границы миров размыты, как и границы личности, а персонажи перетекают друг в друга».
Кто такие феминистка, гинеколог или почтальон, являющийся одновременно палачом и мужчиной в пьесе «Дуралекс»? Если понимать, что всё здесь строится по законам авангардного театра, они – не более чем сценическая условность, персонифицированные идеи, материализованные экзистенции «одного человека», проигрывающего разные версии своей личности и судьбы, зависящей от нравственного выбора. Получается, что один человек – это еще и указание на одного единственного героя, не тождественного самому себе. Больше в пьесах ничего нет – ни времени, ни пространства, ни конкретного антуража. Да всё это и не важно – важна только решающая и страшная встреча с самим собой. Встреча, после которой неизбежен суд – тоже над самим собой – и последующая казнь вечностью. В этом смысле символичен образ наблюдателя-палача. Его появление всегда становится ключевым моментом в развитии действия – либо это принятие важного решения (казнить или помиловать), либо акт мистического прозрения-самоидентификации. Тогда всё затихает, кроме голоса самой истины, и начинают говорить поэты – незримые герои и свидетели всего происходящего:
ПАЛАЧ. А меня ты помнишь?
ЖЕНЩИНА. Не совсем… А кем ты был?
ПАЛАЧ (нараспев). «Я был только тем, чего/ ты касалась ладонью…». (Встает со стула, становится у нее за спиной, кладет ей руки на плечи.) Я очень виноват перед тобой. Знаешь, у меня ведь жизнь была собачья. Мама не хотела меня рожать, просто пропустила момент…
Строка из Бродского усиливает момент катарсиса, и читатель тоже внезапно прозревает, обнаруживая палача в себе, а случайную женщину – в любой другой женщине, которой доводилось быть любовницей, женой и матерью, вершащей суд над собственным ребёнком.
Всё очень просто, поскольку пьесы Нади Делаланд – о каждом из нас, но ни о ком конкретно. И в них нет действия – есть только нечто, совершаемое изнутри, похожее на затянувшийся сеанс у психотерапевта. Но ни врачей, ни кабинета, ни других пациентов (как, собственно, в одноимённой с названием книги пьесе «Один человек») вокруг не наблюдается. Автор просто создаёт мистический портал в чужое подсознание, показывает то, чего обычно никто не видит, но что является ключом к разгадке самой важной жизненной тайны. Динамики нет – есть продуктивная статика самоизучения, встреча со своим чёрным человеком. Ужас в том, что невозможно заранее знать, чем закончится эта встреча – очередным взлётом или окончательным провалом в темноту. В этом смысле пьеса «Один человек» кажется самой пессимистичной, являя собой экзистенцию в чистом виде. Здесь всё, от организации сценического пространства до последней реплики, кажется чётко продуманным. Сюжет прост и страшен одновременно – два бездействующих лица, человек и его альтер-эго, наконец-то встречаются, и эта встреча приводит к абсолютному краху личности. В данном случае реализуется негативный сценарий: «познать себя – значит умереть». Реплики героя изначально готовят читателя к трагическому исходу:
А я тут нахожусь (загибает пальцы, шевелит губами) много дней. Или лет? И вижу вас. Я вас придумал, чтобы не сойти с ума. Чтобы не начать видеть себя. Это очень страшно. Увидеть себя. Страшнее всего на свете. «С той стороны зеркала – пыльный паук»
Образы пыльного паука и занавешенного зеркала становятся сквозными мотивами пьесы, отражением навязчивых идей героя. Показательно, что взяты они из стихотворения самой Нади Делаланд. Поэзия – лакмусовая бумажка истины, от неё ничего не утаишь:
С той стороны зеркала пыльный паук,
мальчик разочарован разгадкой тайны.
Папа у мальчика был кандидат наук,
мама теперь рассеяна и печальна.
Зеркало было завешено пару дней…
Чтение этих строк рождает и более отдалённую литературную ассоциацию. Вспоминается Достоевский, разговор Раскольникова и Свидригайлова о вечности и смерти. Двойник главного героя – грешник, не лишённый, впрочем, укоров совести – представляет вечность не как что-то огромное, а как закоптелую каморку, вроде деревенской бани, где «по всем углам пауки». Возникающая параллельно с этим тема двойничества, упоминание о дворнике Миколке (то ли человеке, то ли призраке) делают подобную аллюзию ещё более прозрачной.
Эрудированность автора, его обращение к образам-архетипам мировой литературы придают сценическому действию особую инфернальность и смысловую глубину. Образ феминистки из первой пьесы воспринимается в соответствующем контексте, когда мы видим, что «в руках она вертит трость с набалдашником в виде головы пуделя». Пудель считается дьявольской собакой. В «Фаусте» Гёте в обличие чёрного пуделя предстаёт Мефистофель, в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» у Воланда тоже в руках была трость с набалдашником в виде головы пуделя. Присутствие мистических сил в пьесах, где ключевой становится тема выбора между добром и злом, становится ещё более ощутимым.
А отсыл к Набокову в заключительной пьесе «#metoo» (о чём пишет и Алексей Макушинский) превращает её в манифест против сексуального насилия и домогательств, в том числе насилия в семье. Теория ролевого веера Макса Вебера и Зигмунд Фрейд с его учением о динамической модели личности, в которой присутствуют конфликтующие силы – тот культурно-философский источник, который объясняет суть происходящего. Непрерывная изменчивость, «текучесть», образов двух главных героев, которые в равной мере могут быть расценены и как разные ипостаси одного и того же персонажа, получает объяснение в финальной реплике автора нашумевшей «Лолиты»:
А вы знаете, недурно получается… Особенно вот это – как у вас выходит, что мужчина для женщины – это же все встреченные ей мужчины… и наоборот. Жизнь она у вас такая… метафора на метафоре сидит и метафорой погоняет.
Действительно, каждая подвергшаяся насилию девочка-подросток во всех мужчинах начинает видеть Гумберта.
Но ключевой замысел книги «Один человек» и глубоко милосердная по сути своей авторская идея в наибольшей степени связаны с другим романом Набокова – «Приглашение на казнь». Образ выдуманного Пьера Делаланда (кстати, такое же имя было у реального французского путешественника и натуралиста) не только указывает на источник выбранного автором псевдонима, но и раскрывает философский смысл каждой его пьесы: “Подобно тому, как глупец полагает себя богом, мы считаем, что мы смертны”.
На самом деле, жизнь выходит далеко за границы рождения и смерти – она начинается до и продолжается после. Поэтому ещё не рождённые и уже умершие герои обретают в пьесах такое же право голоса, как и все прочие персонажи. Поэтому каждый совершённый человеком поступок навсегда остаётся с ним и может превратить его личную «вечность» как в цветущий райский сад, так и в тесную каморку с пыльными пауками на обратной стороне зеркала.
Об Авторе: Елена Севрюгина
Родилась в Туле в 1977 г. Живёт и работает в Москве. Кандидат филологических наук, доцент. Автор публикаций в областной и российской периодике, в том числе в журналах «Homo Legens», «Дети Ра», «Москва», «Молодая гвардия», «Южное Сияние», «Тропы», «Идель», «Графит», электронном журнале «Formasloff», на интернет-порталах «Сетевая Словесность» и «Textura», в интернет-альманахах «45-я параллель», «Твоя глава», газете «Поэтоград». Автор четырёх книг стихов: «Ожидание чуда» (1995), «Избранное» (2005), «Сказки для взрослых» (2014) и «По страницам моих фантазий» (2017). Выпускающий редактор интернет-альманаха «45-я параллель». Лауреат литературной премии «Эврика» (2006 год). Финалист премии «Поэт Года» (2020).



