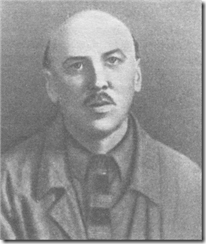Наталия КРАВЧЕНКО. Марина Цветаева и её адресаты. Часть II
Продолжение. Часть 1 читать здесь
Николай Вышеславцев
В конце апреля 1920 года Цветаева создаёт цикл стихотворений, обращённых к «Н.Н.В.» — 30-летнему художнику-графику Николаю Николаевичу Вышеславцеву, работавшему библиотекарем во Дворце искусств. Это был человек высокой культуры, много повидавший и переживший. Он учился живописи в Москве, позже в Париже, в Италии. Потом — фронт, ранение и контузия. Вышеславцев расписывал панно и плакаты, делал обложки книг для разных изданий. Он был талантливым портретистом, рисовал портреты поэтов, людей искусства, исторических лиц прошлого. Обладал энциклопедическими знаниями, свободно владел французским, был интереснейшим собеседником.
Цветаева увлеклась. В её тетради одно за другим рождались стихотворения (всего 27 — некоторые не завершены), – целая поэма неразделённой любви.
Как пьют глубокими глотками –
непереносим перерыв! –
так в памяти, глаза закрыв –
без памяти любуюсь Вами.
Это был высокий человек с безукоризненными манерами, приятными чертами лица и мягким взглядом каре-зелёных глаз под красиво изогнутыми бровями.
Николай Вышеславцев
Времени у нас часок.
Дальше – вечность друг без друга!
А в песочнице – песок –
Утечет!
Что меня к тебе влечет –
Вовсе не твоя заслуга!
Просто страх, что роза щек –
Отцветет.
Ты на солнечных часах
Монастырских – вызнал время?
На небесных на весах –
Взвесил – час?
Для созвездий и для нас –
Тот же час – один – над всеми.
Не хочу, чтобы зачах –
Этот час!
Только маленький часок
Я у Вечности украла.
Только час – на
Всю любовь.
Мой весь грех, моя – вся кара.
И обоих нас – укроет –
Песок.
Встреча (невстреча!) двоих. Не «лёгкий бой», как в «Комедьянте», а игра совсем нешуточная, притом односторонняя: действует только она. О «нём» известно немного: от него веет «Англией и морем», он «суров и статен». В его глазах она читает свой приговор: «Дурная страсть!» Он почти бессловесен и недвижим:
На бренность бедную мою
взираешь, слов не расточая.
Ты каменный, а я пою.
Ты памятник, а я летаю! –
говорит она, обращаясь всё к тому же «Каменному ангелу», «Комедьянту», чья душа недосягаема, подобно камню, брошенному в глубокие и тёмные воды. А именно до его души, что «на все века — схоронена в груди», ей страстно и безнадёжно хочется добраться: «И так достать её оттуда надо мне. И так сказать я ей хочу: в мою иди!»
Вышеславцеву адресованы «Кто создан из камня…», «Вчера ещё в глаза глядел…», «Проста моя осанка…» Из письма Цветаевой:
«И ещё моё горе, что Вы, нежный руками — к рукам моим! – не нежны душою — к душе моей! Это было и у многих (вся моя встреча с Завадским — с его стороны!), но с тех я души не спрашивала. Конечно — руками проще! Но я за руками всегда вижу душу, рвусь — через руки — к душе, даже когда её нет. А у Вас она есть (для себя!) – и ласковость только рук — от Вас! – для меня — оскорбление».
В мешок и в воду – подвиг доблестный!
Любить немножко – грех большой.
Ты, ласковый с малейшим волосом,
Неласковый с моей душой.
Грех над церковкой златоглавою
Кружить – и не молиться в ней.
Под этой шапкою кудрявою
Не хочешь ты души моей!
Вникая в прядки золотистые,
Не слышишь жалобы смешной:
О, если б ты – вот так же истово
Клонился над моей душой!
Он не ласков с её душой. Она чувствует, что он мысленно осуждает её — за вольность её порывов, презирает как женщину. Она видит себя его глазами:
Так ясно мне –
до тьмы в очах!
Что не было в твоих стадах
черней овцы.
Однако осудить и унизить её невозможно. Ибо она знает нечто большее и важнейшее:
Суда поспешно не чини:
непрочен суд земной!
И голубиной не черни
галчонка белизной.
Есть иной мир, недоступный ему, но ведомый ей, мир, где всё переосмыслится: чёрное будет белым, а то, что принято считать белым — чёрным. Есть высший суд, который только и может судить её, и тогда она восторжествует: «Быть может в самый чёрный день очнусь — белей тебя!»
И, удивленно подымая брови,
Увидишь ты, что зря меня чернил:
Что я писала – чернотою крови,
Не пурпуром чернил.
(Цветаева писала в то время красными чернилами).
Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что – невинна.
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою – за счастьем.
Пересмотрите всe мое добро,
Скажите – или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке – лишь горстка пепла!
И это всe, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всe, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.
Она пишет о «великой низости любви» во всей её беспощадности:
Всё сызнова: коленопреклоненья,
оттолкновенья сталь.
Я думаю о Вашей зверской лени, –
и мне Вас зверски жаль!
И в другом стиховорении:
Когда отталкивают в грудь,
ты на ноги надейся — встанут!
Стучись опять к кому-нибудь,
чтоб снова вечер был обманут.
Примерно к осени 1920-го пришло время истаять и этому мифу. Его герой, как и все предыдущие, как все последующие, обернулся для поэта всего лишь временным равнодушным спутником. Именно под этим названием Цветаева 13 лет спустя напечатает три стихотворения, обращённых к «Н.Н.В.» А несколько стихотворений в 1923-м перепосвятит другому человеку. Перепосвящения тоже были одной из форм развенчания…
Дарила ли Цветаева стихи адресату, писала ли ему? Мы никогда не узнаем об этом: архив Вышеславцева (бумаги, книги) во время войны погиб. Но остались рисунки, в том числе портрет Цветаевой 1921 года. Он даёт нам совсем неизвестную Цветаеву. В портрете мало реального сходства, это портрет человеческой сути. Художник наделил его жёсткостью, резкостью, может быть, излишней. За обострёнными чертами лица угадывается вулкан страстей. Отсюда — сознательное нарушение пропорций глаз — они слишком велики, рта — он чересчур мал, точнее, плотно сжат: дабы не выпустить наружу клокочущие бури. Но главное — отрешённый, «сны видящий средь бела дня» близорукий цветаевский взгляд, который не в силах передать ни одна фотография. Взгляд поэта, всматривающегося, вслушивающегося в себя. Это портрет-озарение, единственный в своём роде.
портрет Марины Цветаевой. Худ. Н. Вышеславцев
Абрам Вишняк
Аля Эфрон писала: «Мама за всю свою жизнь правильно поняла одного единственного человека — папу, то есть, понимая, любила и уважала, всю свою жизнь. Во всех прочих очарованиях человеческих (мужских) она разочаровывалась». Но и Сергей Эфрон был тем единственным человеком, встретившимся на пути Марины, который действительно её любил: и чтил в ней Поэта, и любил её самою, чего ей в жизни так всегда не доставало. Он был единственным, кто её понял, а поняв, любил, кого не устрашила её безмерность.
«Мой Серёженька! – пишет она ему. – Если от счастья не умирают, то во всяком случае каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Не знаю, с чего начинать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам…»
И это совсем не важно, что за годы его отсутствия у неё было столько увлечений! Она рвётся к Сергею, она живёт мечтой о встрече с ним… И вот наконец она в Берлине. Он не сумел приехать встретить её, он задерживается в Праге, опаздывает на несколько дней, и… она уже увлечена! И оставляет нам в наследство берлинский цикл стихов.
Позже Сергей Эфрон с горечью напишет Волошину, что, когда он в июне 1922-го приехал в Берлин, он уже тогда почувствовал, что «печь была растоплена не мной». «На недолгое время», – добавляет он. И с обречённостью произносит слова, которые мог бы сказать едва ли не 10 лет назад: «В личной жизни Марина — это сплошное разрушительное начало».
Всё, всё он знал и… остался. Ибо есть узы, которые тысячекратно сильнее страстей.
Кто же был новый герой Цветаевой, герой романа с её душой? Это был издатель журнала «Геликон» Абрам Григорьевич Вишняк, с которым её познакомил Илья Эренбург в первые дни приезда. Его так и называли: «Геликон». Сухопарый, черноволосый, он смутно напомнил Марине Плуцера-Сарна и сильно затронул её сердце и воображение. В её тетради появляются стихи, как сказал некогда Брюсов о её первой книге, «жуткой интимности». В них — сладостная, мучительная, обречённая «юдоль любви»: бренной, преходящей, жестокой, земной и грешной.
Ночные шепота, шелка
разглаживающая рука.
Ночные шепота: шелка,
разглаживающие уста.
Ничто. Тщета. Конец. Как нет.
И в эту суету сует
сей меч: рассвет.
Так началось новое мифотворчество, новое обольщение, новое (в который раз!) обаяние слабости, против которого Марина была бессильна…
Цветаева признается адресату в том, что он покоряет и умиляет её своими «земными приметами» (именно так назовёт она цикл стихов, к нему обращённых).
С 17 июня по 9 июля Марина написала Вишняку 9 писем. Писала по ночам, едва расставшись после ежедневной вечерней встречи, дорисовывая её в своём воображении. С нетерпением и тщетно ждала ответа на каждое письмо. Наконец ответ пришёл, вежливый, «плавный». А как могло быть иначе, если Геликон целиком был поглощён своим горем: изменой жены, о чём Цветаева знала, но не желала замечать. Его письмо разочаровало её: теперь она пишет Геликону чуть иронически. Её увлечение начало остывать, хотя прошло всего 2 недели. Последнее, десятое письмо Марина Ивановна напишет в последний день своего пребывания в Берлине.
Из этих писем десять лет спустя, в 30-е годы Цветаева, переведя их на французский, сделает эпистолярный роман под названием «Флорентийские ночи»: девять писем героини, единственный ответ «его» и — убийственный финал, в котором герой окажется начисто забыт: описано, как «она» не узнала его на каком-то балу.
И в жизни это увлечение, как только воплотилось в стихи и письма, остыло. Вскоре Цветаева отозвалась о недавнем своём вдохновителе достаточно презрительно. Великолепная забывчивость, царственная неблагодарность поэта отслужившему материалу…
Абрам Вишняк (слева)
Александр Бахрах
В деревне под Прагой Цветаева прочтёт рецензию молодого критика Александра Бахраха на свою книгу «Ремесло». Эта рецензия показалась ей глубокой и понимающей, почудилась в авторе родная душа, и она окликает его благодарным письмом. Потом — письмо вслед за письмом. С этой заочной дружбой (встреча их так и не состоялась) связаны стихи, написанные Цветаевой с июня до середины сентября 1923 года. Её душе нужно было новое горючее, новый «повод к самой себе». Марина пишет незнакомому 20-летнему критику (ей — 31): «Ваш голос молод, это я расслышала сразу… Ваш голос молод. Это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, – какое-то каменное материнство, материнство скалы…»
Материнское – сквозь сон – ухо.
У меня к тебе наклон слуха,
Духа – к страждущему: жжет? да?
У меня к тебе наклон лба,
Дозирающего вер – ховья.
У меня к тебе наклон крови
К сердцу, неба – к островам нег.
У меня к тебе наклон рек,
Век…
Александр Бахрах
Александр Васильевич Бахрах за свою долгую жизнь знал очень многих из русского литературного зарубежья: Бунина, Зайцева, Ремизова, Белого, Тэффи, Сирина-Набокова… Во время войны жил у Бунина в Грассе, где тот прятал его, как еврея, от фашистов. Прелестная лёгкая книга Бахраха «Бунин в халате» явилась своего рода данью посмертной благодарности последнему русскому классику. А тогда, в 1923-м, он, начинающий критик, неравнодушный и вдумчивый, доброжелательный и тонкий, привлёк живой интерес Цветаевой. И хлынул поток её писем, написанных с той же поэтической мощью, с какой она будет писать потом Пастернаку и Рильке. В них было всё, что мог дать поэт своему адресату, – вся цветаевская безмерность.
«Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом… Я хочу от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы в свои 20 лет были 70-летним стариком и — одновременно — семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счёта, борьбы, барьеров… Безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств…»
Идёт волшебная игра. Марина творит заочный миф о Бахрахе. Она с нетерпением ждёт ответа на свои письма.
Так писем не ждут,
Так ждут — письма́.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри — словцо.
И счастье. И это — всё.
Так счастья не ждут,
Так ждут — конца:
Солдатский салют
И в грудь — свинца
Три дольки. В глазах красно́.
И только. И это — всё.
Не счастья — стара!
Цвет — ветер сдул!
Квадрата двора
И чёрных дул.
(Квадрата письма:
Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!
Квадрата письма.
Мы не знаем, отвечал ли ей Бахрах, как он вообще отнёсся к этой обрушившейся на него
«органной буре». Но до конца жизни он сохранил чрезвычайную скромность, ни словом не намекнув на свою личную заслугу в том, что вызвал к жизни эту лавину писем. В 1960 году А. Бахрах напечатает все письма Цветаевой к нему, но — из скромности — с большими сокращениями.
Марина творила героев своих романов. Не то чтобы она не считалась с их природой — она её не знала, всё затмевали несколько слов, показавшихся созвучными её душе. По ним создавался образ человека: брата по духу, родного в помыслах, единомышленника в отношении к миру. Эти сотворённые ею образы часто оказывались весьма далеки от оригинала, но любила она их по-настоящему, радовалась и горевала, каждому готова была отдать всю себя — только так могли возникнуть стихи. И потому герои её любовных циклов так непохожи один на другого — в основу своих фантазий она брала нечто присущее именно этому адресату. Так, стихи, обращённые к Бахраху, строились на его молодости и чистоте.
Сквозь девственные письмена
Мне чудишься побегом рдяным,
Чья девственность оплетена
Воспитанностью, как лианой.
Дли свою святость! Уст и глаз
Блюди священные сосуды!
Марина даёт волю фантазии, своей неутолённой мечте о сыне, и в стихах Бахраху создаёт образ сына своей души, «выкормыша», которого она выпустит в мир, досоздав:
«Я не сделаю Вам зла, я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный и, забыв меня, никогда не расставались с тем — иным — моим миром!»
А.Бахраху посвящён цикл стихов «Час души».
В глубокий час души и ночи,
Нечислящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах…
В них — ощущение, что стихи и письма — лишь прелюдия к чему-то иному, что должно начаться вот-вот, чтобы продолжить жаждущий выхода накал страсти… И оно началось — с другим.
Константин Родзевич
«Час души» с Бахрахом оборвался на самой высокой ноте. И виновником этого обрыва стал Константин Родзевич, студент пражского университета, товарищ и однокашник Сергея Эфрона. Он был невысокого роста, с тонкими чертами лица, фотографии донесли выражение мужества и лукавства.
Он пользовался большим успехом у женщин, и Эфрон называл его «маленьким Казановой». Но, хотя, судя по воспоминаниям современников, особым интеллектом и эмоциями новый избранник Марины не обладал, но был смелым и решительным человеком, не раз смотревшим смерти в лицо.
Константин Родзевич
В 1936 году он будет сражаться в Испании, станет участником французского сопротивления, испытает ужасы фашистских лагерей. А в годы гражданской войны в России он был приговорён белыми к расстрелу, как красный командир. Но от расстрела его спас генерал, знавший его отца, военного врача царской армии, и с остатками разбитой белой армии Родзевич попадает в Галлиполи, где и встретится с Эфроном. Они жили в одном общежитии-казарме для студентов-эмигрантов.
Из письма Цветаевой Бахраху: «Как это случилось? О, друг, как это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. «Связь»? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От рук — до губ — и где же предел?…Знаю: большая боль. Иду на страдание».
Так в жизнь Цветаевой входил Константин Родзевич. Час души уступил место часу эроса.
Жжет.. Как будто бы душу сдернули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.
Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить…
Из бури страстей разгорается пламя бессмертной лирики. Счастье оказалось очень коротким, налетело расставание, принёсшее горе и — две замечательные поэмы.
«Поэма Горы» – поэма любви, в момент наивысшего счастья знающей о своей обречённости, предчувствующей неизбежный конец. Гора у Цветаевой — символ высоты духа, высоты чувства, бытия над бытом, высота отношений героев над уровнем обыденности.
Но семьи тихие милости,
но птенцов лепет — увы!
Оттого, что в сей мир явились мы
небожителями любви.
«Поэма Конца» – воплощение этой неизбежности разрыва, гора — рухнувшая, и горе, обрушившееся на героиню.
Прости меня! Не хотела!
Вопль вспоротого нутра!
Так смертники ждут расстрела
В четвертом часу утра…
Любовь, это плоть и кровь.
Цвет, собственной кровью полит.
Вы думаете – любовь –
Беседовать через столик?
«Всё врозь у нас — рты и жизни». «Я — не более, чем животное, кем-то раненное в живот», – говорит она о себе. Да, Цветаева, как и её героиня, была счастлива, – это видно по той боли, с которой она расставалась — отрывала от себя любимого. И по той жестокости, с которой она посвящала в свою новую любовь Бахраха. Она многого ждала от этой любви.
Письмо от 22 сентября 1923 года — откровеннейший, интимнейший документ — и одновременно непреходящее литературное произведение. «Песнь песней» на цветаевский лад:
«…Арлекин! — Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть — Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня — хаос! — а лучшую меня, главную меня.
Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жарче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.
Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди …
Друг, я вся твоя. М.»
К. Родзевич с невестой М. Булгаковой
Это письмо — сама жизнь, сама любовь, её торжество, её сияние, её счастье. В первый — и, вероятно, в последний раз в её любви соединились доселе несоединимые земля и небо. То, к чему устремлялись, но так редко — так почти никогда! – не достигали, в сущности, поэты. Мираж, на миг обернувшийся явью…
Родзевич был ошеломлён и испуган нахлынувшей на него лавиной цветаевской безудержности и малодушно бежал от грозы и грома в тихую пристань буржуазного брака.
Он устал от её постоянных требований и от накала чувств, от непомерной высоты этих отношений. Оба знали, что роман окончен. Цветаева пишет эпитафию их страсти:
Ты, меня любивший фальшью
Истины — и правдой лжи,
Ты, меня любивший — дальше
Некуда! — За рубежи!
Ты, меня любивший дольше
Времени. — Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.
Версию о том, что Цветаева подарила подвенечное платье невесте Родзевича, решительно опровергала сама Мария Булгакова. Марина сделала ей другой свадебный подарок — гораздо более цветаевский. Этот подарок трудно назвать добрым. Он должен был нанести рану. Цветаева подарила Булгаковой маленькую, переписанную от руки книжечку. Это была «Поэма Горы». Поэма, написанная на самом пике любви к Родзевичу, может быть, самая прекрасная поэма о любви, созданная в 20 веке.
Из записной книжки Цветаевой: «А жить — нужно. (Серёжа, Аля). А жить — нечем. Вся жизнь на до и после. До — всё моё будущее. Моё будущее — это вчера, ясно? Я — без завтра. Остаётся одно: стихи. Стихии: моря, снега, ветра. Но всё это — опять в любовь. А любовь — опять в него!» Замкнутый круг одиночества поэта, обречённого в конце концов только на самого себя: на своё творчество.
Продолжение следует
Об Авторе: Наталия Кравченко
Родилась и живёт в Саратове. Филолог, член Союза журналистов, работала корреспондентом ГТРК, социологом, редактором частного издательства. С 1986 года читает публичные лекции о поэтах разных стран и эпох. Автор 18 книг стихов, литературных эссе и критических статей. Публиковалась в журналах и литературных альманахах "Саратов литературный", "Эдита" (Германия), "Русское литературное эхо" (Израиль), "Параллели" (Самара), "Новый свет" (Канада), "Фабрика литературы" (Украина), "Порт-фолио" (Монреаль-Канада), «Артикль», «Эрфольг», "45-я параллель", "Семь искусств", «RELGA» , "Сура" , "Лексикон", "Золотое руно", «Гостиная», «Подлинник», «День и ночь», «Нева», «Южное сияние», «Зарубежные Задворки». Лауреат 13-го Международного конкурса поэзии "Пушкинская лира" (Нью-Йорк, 2 место, 2003). Финалист 5-го Международного конкурса поэзии им. Владимира Добина (Ашдод-Израиль, 2010). Лауреат Международных поэтических конкурсов "Серебряный стрелец" (Лос-Анджелес 2011), "Цветаевская осень" (Одесса, 2011), "45 калибр" (Ставрополь, 2013), «Эмигрантская лира-2013/2014» (Бельгия), конкурса имени Игоря Царёва "Пятая стихия" (2014), конкурса имени Дюка де Ришелье (Одесса, 2016, Серебряный Дюк), международного конкурса «Серебряный голубь России 2016» (Санкт-Петербург, 4 премия), победитель литературного конкурса Интернет-журнала "Эрфольг" (2013), финалист и дипломант межобластного конкурса поэзии "Чем жива душа..." (Ярославль, 2016), дипломант международного литературного конкурса «Родной дом» (Минск, 2016), лауреат литературной премии «Свой вариант» (Луганск, 2016).