Иван ЛУКАШ (1892-1940). Правнучки Гоголя и Пушкина в Париже
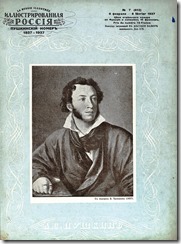
Холодный вечер с дождем. В парижской весне, когда зацветают сирень и каштаны, есть такая холодная полоса.
Квартира на четвертом этаже, около Конвансион. Темная, прихожая. Наша эмигрантская квартира, где все вещи как будто собраны наспех и случайно. Меня встречает графиня Анна Николаевна Апраксина и ее старшая сестра, Елизавета Николаевна Савицкая. Третья сестра Наталья Николаевна, живет в Белграде, они правнучки Гоголя и Пушкина.
Отец их Николай Владимирович Быков, сын сестры Гоголя, Елизаветы Васильевны, вышедшей замуж за Владимирского помещика Быкова, а мать, Мария Александровна, внучка Александра Сергеевича Пушкина.
* * * * *
Николай Владимирович Быков, племянник Гоголя, служил в молодости в Нарвском гусарском полку, которым, как известно, командовал старший сын Пушкина, Александр Александрович. Именно тогда племянник Гоголя и встретился, а позднее повенчался, с внучкой Пушкина, Марией Александровной. В рядах Нарвского гусарского полка Николай Владимирович проделал балканскую кампанию 1877 года, вышел в отставку поручиком, служил, по полтавскому губернскому присутствию, а в конце жизни был в составе правления полтавского земельного банка.
Во время революции, в 1920 году, три внучатые племянницы Гоголя выбрались из России через Константинополь, как и большинство эмигрантов. У Быковых есть еще четыре сестры, и было два брата, ныне скончавшихся.
Владимир Андреевич Савицкий, муж Елизаветы Николаевны, киевский и полтавский помещик, соиздатель «Полтавского Вестника» и сотрудник южно-русских газет, служит теперь в Париже на телефонной станции, Елизавета Николаевна вышивает, обе их дочери также служат.
Граф Апраксин, муж Анны Николаевны, служит инженером-электриком; сама она музыкантша, но теперь занята двумя своими малышами. Семья потомков Гоголя и Пушкина в Париже, как видите, большая, и настоящая эмигрантская.
* * * * *
Легко перебирая цепь часов, больше рассказывает старшая сестра, Елизавета Николаевна, а младшая, Анна Николаевна, устроившись на канапе, изредка ей помогает, закуривая очередную папиросу. Очень обычная эмигрантская встреча в дождливый вечер и совершенно необычайный рассказ о Гоголе, Пушкине, Жуковском, о полтавской Яновщине.
В самом голосе Елизаветы Николаевны, чистом и сильном, и в овале ее лица, или во взгляде Анны Николаевны, в ее движениях, я не знаю в чем, но кажется, чувствую я некое странное и живое дуновение, может быть, отдаленный звук, строй и лад тех же голосов, тех же движений, что были у их прадедов Гоголя и Пушкина. И сокровенным знаком кажется сочетание двух имен в этой семье.
Сестры просто рассказывают мне все, что семья сохранила о прадеде. Это домашние воспоминания об отцовской усадьбе Яновщине, славного Миргородского повита, Полтавской губернии, о детских годах в бабушкином доме в Полтаве.
Необыкновенной солнечной тишиной Украины, буднями помещичьего Миргорода и простотой домашности веет от воспоминаний сестер.
* * * * *
Их отец, Николай Владимирович, вместе со всеми детьми Елизаветы Васильевны, после ее смерти, воспитывался другой сестрой Гоголя, Анной Васильевной, оставшейся в девичестве. Гоголь писал сестре Анне, кажется, чаще, чем другим сестрам, Марии, Елизавете и младшей Ольге. Младшая сестра, Ольга. Гоголь, как помнят сестры Быковы, больше всех походила на портреты своего брата и была такой же остроносой.
Сестры Быковы хорошо помнят бабушку Анну Васильевну, пережившую всех замужних сестер, и скончавшуюся в девятисотых годах в тихой Полтаве.
Анна Васильевна Гоголь была небольшого роста, с легкой походкой, добрым, круглым и свежим лицом. Она была в свою мать, Марию Ивановну. Глаза у Анны Васильевны, как у всех Гоголей, были светлые, прозрачно-серые.
Когда-то, в былые времена, которые кажутся уже небывалыми, в тридцатых годах прошлого века, мать Гоголя, Марья Ивановна, по просьбам сына из Петербурга, записывала в Яновщине народные песни, сказания, страшные рассказы и собирала старинные деревенские плахты и гетманские наряды.
В те невероятно далекие времена никому неведомый провинциал Гоголь, дрожа от стужи и ветра, бегал по Петербургу, пробуя все — актерство и чиновничество, и репетиторство, и литературу. Он уже знал тогда, свое призвание и уже страшился он, судя по одному его письму, «черной квартиры неизвестности в мире». Ему тогда едва минул двадцать один год. Его младшие сестры тоже, как умели, помогали матери собирать украинские сказания и песни для брата.
* * * * *
Сестры Быковы помнят, что бабушка Анна Васильевна была очень рассеянной, можно сказать невероятно рассеянной, часто путала имена детворы, и по доброте своей все раздаривала. Анна Васильевна Гоголь всегда носила чепец с кружевной оторочкой и бархатную тальму. В ее милой светскости было нечто, напоминающее старинные портреты помещичьего дома, писанные еще крепостным живописцем. До своей кончины Анна Васильевна жила в Полтаве, в мирной усадебке, что неподалеку от полтавского девичьего института. В детских воспоминаниях сестер сохранилась не раз повторяемая сцена. Бабушка Анна Васильевна, в неизменном кружевном чепце и тальме, в солнечный день, сидит у окна в покое полтавского дома. Какие-то заезжие гости окружают кресло бабушки. И вот заговорили о «братце» Николае Васильевиче. И вот уже тоненький старинный платок забелел в ее руках. Беседы о Николае Васильевиче расстрагивали ее до того, что многим заезжим поклонникам Гоголя она, по старческой доброте, «для вечного сбережения» дарила его собственноручные записки, его письма, тетради, рисунки. Сестры вспоминают теперь об этом с жалостью и отчаянием.
* * * * *
А горничной девушкой у Анны Васильевны Гоголь была вывшая крепостная Наташа, живая старушка с кривым подбородком, уже отдыхавшая на покое, весельчак и забавница, любопытная фигура полтавского дома.
Дряхлая горничная девушка Наташа была дочерью славного гоголевского слуги Якима. Николай Васильевич Гоголь не расставался со своим крепостным человеком Якимом в долгих странствованиях по заграницам.
В нанковом коричневом сюртуке, ворот хомутом, с тугим черным галстуком, обмотанным вокруг шеи втрое или вчетверо, молчаливый Яким был неизменным попутчиком Гоголя по бричкам и дилижансам, на постоялых дворах, в итальянских остериях и по немецким пансионам.
По домашним преданиям, молчаливый Яким, суровый молитвенник и удивительный знаток священного писания, мог бы рассказать о Гоголе много такого, чего не знал о нем ни один другой человек на свете, но Яким так и хранил молчание до самой своей смерти.
* * * * *
Сестры уже не застали гоголевского слугу в живых, зато в Яновщине, на покое, доживали свой век крепостные еще отца Гоголя, ветхий Петро и ветхая Настасья.
От двух стариков до сестер докатились дальше отзвуки гоголевских времен, деревенские тихие о нем предания.
В летний день, когда звенела полуденная тишина и теплые дуновения едва шевелили волосы старого Петро, в Яновщине, на кургане, что над прудом, бывший крепостной рассказывал девочкам, притихшим в траве, о паныче Николае Васильевиче.
В Полтаве стояла засуха, и был недород, рассказывал Петро, когда паныч вернулся из дальней столицы, может быть, из Москвы, а может быть, еще дальше от той столицы, где живет сам государь. В Яновщине паныч созвал тогда парубков и девчат. Много пришло народу. А Микола Васильевич повел их всех на это самое место и сказал: «Ройте здесь глубокую яму». Люди вырыли ему глубокую яму. Тогда он сказал: «Теперь насыпайте высокий курган».
Насыпали и курган и еще обвели его рвом. Люди все «сробили», как было приказано, и он наделил их деньгами и подарками, а Петро, когда был уже насыпан высокий курган, спросил паныча, зачем ему это понадобилось. «Вы насыпали мой курган, — сказал Гоголь, — чтобы люди меня вспоминали, когда я помру…» По-видимому, в тяжелый для Полтавщины год, Гоголь задумал так дать заработок своим деревенским сверстникам.
Но в доме Быковых жило предание, что в тот курган над тихими водами Яновщины Гоголь зарыл тайную свою рукопись. Все младшее поколение дома в это верило свято. «Я и теперь убеждена, что он зарыл туда рукопись, — говорит мне графиня Анна Николаевна.
Отец, Николай Владимирович, знавший такое домашнее предание, настрого запрещал детям разрывать Гоголевский курган.
Но все же, однажды, когда отец с матерью уехали куда-то к соседям, вся детвора живо снарядилась и отправилась на курган с лопатами и мотыгами. Рыли долго, до седьмого пота и до самого вечера. Под курганом, на котором шумела седая трава, дети прорыли целую пещеру, но в земле не нашли ничего, только было почему-то много в кургане старых, уже изгнивших кусков дерева. «А я все равно верю, — повторяет графиня Анна Николаевна, — что он зарыл там рукопись. Нам надо было еще глубже рыть, тогда бы нашли…»
Так, по-видимому, живуче в семье гоголевских потомков предание о таинственной рукописи, зарытой Гоголем в кургане в Яновщине.
* * * * *
И еще одно любимое место Николая Васильевича было в Яновщине. Оно называлось Дубки. Росли там дубы в беспорядке, толпой, и на дороге, и по холмам. Это были Гоголевские дубы, и те же Настасья и Петро рассказывали, что сеял их сам Гоголь: возьмет в горсть желудей и бросит, с закрытыми глазами куда упадут. «Куда упадут, там и вырастут».
Там и выросли его дубы.
* * * * *
Скромная помещичья семья, и в Яновщине, и в Полтаве, с удивительной простотой и душевностью берегла память писателе. Сестры с детства помнят две гравюры: потемневшее от времени «Преображение», которое любил сам Гоголь и другую, позднюю гравюру «Гоголь, сжигающий свои рукописи».
В Яновщине, в их доме был особый Гоголевский повой. Девочки въходили туда со странной и трогательной учтивостью, как входили они в деревенскую церковь. Там стоял темный книжный шкаф Николая Васильевича, задернутый тафтяной занавеской. В шкафу были его книги и среди них пожелтевшая «История Малороссии» Кулеша.
В другом углу стояла конторка, на которой он в бытность свою в Яновщине писал стоя. Конторка красного дерева, сработанная в старые времена венским мастером, потертая по краям и изрезанная перочинным ножом, в чернильных кляксах и росчерках, пробах пера.
А под конторкой, в потемках покоился в тонком слое пыли дорожный чемодан Николая Васильевича, тот самый обтертый и, как бы выдохнувшийся дорожный ковчег с потертыми ремнями, который сопутствовал Гоголю и в Рим, и в Париж, в Штутгардт и в Ниццу, в его долгих — долгих дорогах.
В том же покое, а потом в Полтаве у Анны Васильевны, был портрет Николая Васильевича, писанный с него в Италии Федором Моллером. Портрет этот совершенно известен по любому школьному изданию миллионам людей.
Но, вероятно, мало кто заметил, что на портрете поблескивает на груди Гоголя золотая цепь.
Сестры Быковы знают, что это золотая цепь от часов Гоголя, которые он носил так на длинной цепочке через шею.
Кроме того, у Николая Васильевича были довольно большие часы, подаренные ему Пушкиным. Сестры видели у бабушки эти золотые часы с серебряным ободком. Самому Пушкину часы достались от Жуковского. Кажется, в Царском Селе был сделан Пушкиным этот подарок молодому Гоголю.
Пушкинские часы были остановлены в час и минуту смерти Николая Васильевича, и никогда и никто их больше не носил.
После смерти Анны Васильевны, мать сестры Быковых, внучка Пушкина, Мария Александровна носила обычно золотую цепочку от часов Гоголя.
Сохранилась домашняя фотография Марии Александровны, где хорошо видна эта длинная цепь от часов, кованая крупными плоскими звеньями. Позже цепь была украдена.
Сохранился еще шелковый шейный платок Гоголя, почему-то наполовину оборванный. У сестер осталась память и о старинном его жилете, гранатового бархата с белым крапом, также берегшемся в помещичьем доме.
Где теперь все это в России, сестры точно не знают.
И еще одно воспоминание, щемящее и странное, осталось у сестер.
* * * * *
В доме был старинный рисунок, как бы смутный след чьего-то дыхания, точно кто-то только что обвел туманный, едва видимый, очерк длинноносого лица, профиль Гоголя. Это был рисунок самого Гоголя. Когда-то он сам, глядя на себя в домашнее зеркало, как бы снял свое магическое отражение.
Может быть, Гоголь оставил его, вернувшись из тех своих скитаний, когда он приникал к домашней тишине, ища утешения в ее благословенной простоте и ясном покое ее вечеров, с мирным пением деревенских дверей.
Он, может быть, тогда начертил это смутное отражение, когда уже чувствовал свой душевный надлом, свои «открытия и предслышания», и «духовные зеркала», предсмертную смуту и откровение духа.
* * * * *
«Мы, конечно, ничего не могли вывезти с собою, — говорит Елизавета Николаевна. Всего несколько домашних фотографий, дорогих нам…» Сестры показывают мне пожелтевшую фотографию, вероятно, еще времен императора Александра II: Гоголевский дом в Яновщине. Перед домом парубки и девчата, один нарубок со скрипицей. Вот они Агапки, Ганны, и Вакулы, наивные и счастливые в своей совершенной свежести, с которых писал Гоголь героев «Вечеров» и «Мир города». Теперь Вий или сгубил или подавил их всех со всей темной силой своих чудовищ. В разгар революции крестьяне Яновщины не только не поддались агитаторам, но сами, по своей воле защищали и охраняли усадьбу Гоголя от проходивших шаек.
Еще пожелтевшая домашняя фотография «верховья» тихого пруда в Яновщине и портрета Николая Владимировича.
* * * * *
«Одну только гоголевскую вещь удалось мне вывезти, — говорит с улыбкой Елизавета Николаевна. — Я вам ее покажу». И она приносит крошечный наперсток красноватого золота, старинной чеканки. Прелестно вычеканена по его краю гирлянда листьев с серебряными цветами. Этот наперсток с другими сувенирами, подарками сестрам, Николай Васильевич привез в Яновщину в свой последний перед смертью приезд, после 1848 года.
Это его последний подарок сестре Елизавете Васильевне, бабушке Быковых. Другие сувениры исчезли, а крошечный прелестный наперсток остался. И было ему суждено вместе с потомками Гоголя долгое изгнание, чужбина.
Я рассматриваю его, и кажется мне каким-то волхованием, что я касаюсь крошечного куска потемневшего золота, которого касались и его руки.
«Как странно, — говорит Анна Николаевна, — что он его когда-то рассматривал, выбирал, бережно вез сестре…
* * * * *
Елизавета Николаевна вспоминает и полтавских соседей, и поместье Трощинского, где когда-то отец Гоголя, Василий Афанасьевич, разыгрывал домашние спектакли, а маленький Николаша восхищался первыми театральными зрелищами. Помещичий дом, когда довелось там быть Елизавете Николаевне, уже стоял запущенный, крытый соломой, а рядом с ним тянулось строение забытого крепостного театра. Там, во времена Елизаветы Николаевны, в пустом зрительном зале, мирно дозревали в ненарушимом покое на полу благословенные украинские арбузы, абрикосы и груши…
* * * * *
Мы заговорили о матери сестер, Марии Александровне Пушкиной. Она вторая дочь Александра Александровича Пушкина, старшего сына поэта. Она жива. Она в России. Сестры хорошо помнят и дедушку Александра Александровича, который для России, как бы навсегда остался маленьким «рыжим Сашкой», как называл его Пушкин.
Они помнят сухощавого невысокого старика, с мягким, слегка смуглым и подвижным лицом, седобородого, лысого, в очках, за которыми живо и весело светились слегка прищуренные приветливые глаза, серые, с синевой, пушкинские глаза.
Александр Александрович постоянно жил в Москве. У сестер осталась от него память, как о благородном, барственном человеке. В нем было что-то слегка старомодное, кавалерственное, обаятельное, и простое.
Он командовал Нарвским гусарским полком. На домашней фотографии, вывезенной из России, Александр Александрович снят в полной парадной форме, в регалиях, во весь роста. Он похож на отца, особенно верхней частью лица, и тонкостью черт, и выражением глаз.
Мать свою, Наталию Николаевну, жену поэта, Александр Александрович, как и все в семье, почитал глубоко и трогательно. Наталья Николаевна часто приезжала гостить к старшему сыну в Москву. Именно по приезде к сыну на крестины его третьего ребенка, Наталия Николаевна смертельно простудилась, слегла, и вскоре скончалась. Это было в шестидесятых годах. Есть еще много неясного, неточного, и явно искаженного в представлениях русского общества о Наталии Гончаровой, как и о последней любви и смерти поэта.
От второго замужества Наталии Николаевны за Петром Петровичем Ланским у нее было три дочери Александра, Елизавета и Софья. Александра Петровна, но мужу Арапова, как известно, горячо выступала в печати в защиту памяти своей матери.
Барон Геккерен – Дантес, смертельно ранивший Пушкина на дуэли, до конца жизни мучился таким исходом поединка, всегда говорил, что не желал того, что «черт вмешался в это дело». Уже стариком, здесь, в Париже, Дантес не раз дрался на дуэли за малейший намек на оскорбление или поношение памяти Наталии Николаевны.
Младший сын Александра Александровича Пушкина, внук поэта Николай Александрович, как известно, благополучно здравствует среди нас, издавна проживая с семьей в Брюсселе.
Сестрам известно, что внук барона Геккерена-Дантеса приезжал в Брюссель к внуку Пушкина и предложил ему покончить с почти вековым трагическим раздором двух семей и примириться.
Полное и дружеское примирение Пушкиных и Дантесов состоялось.
Отметим, наконец, что здесь, в изгнании, хранится печать Пушкина и веер Наталии Николаевны, и ее длинные бальные перчатки…
* * * * *
В семье, о деде Александре Александровиче Пушкине ходил один чудесный рассказ.
В лютый зимний день был на одной из стоянок смотр Нарвскому гусарскому полку. Гусары, окутанные морозным паром, с конями, уже построились на плацу. Показался верхом на жеребце командир полка, Александр Александрович Пушкин. Но тут, откуда ни возьмись, на плац, с салазками, нагруженными нищенским скарбом, выбралась какая то старушонка. Александр Александрович посмотрел как она бьется со своей кладью, и, перед строем всего гусарского полка, спрыгнул с коня, легко перебежал по снегу и приналег вместе со старушонкой в веревочный гуж. Весело ободряя ее, он тащил салазки, покуда к нему не подоспели другие гусары.
В этом рассказе, не правда ли, есть светлая пушкинская стремительность?
* * * * *
Затейливые настольные часы, подарок однополчан, были у дедушки Александра Александровича. Нарвский гусарский полк, под командой Александра Александровича, имел двенадцать стоянок по всей России. Каждый час на циферблате обозначал одну из стоянок, а когда стрелки торжественно сдвигались на двенадцати, эти любопытные часы мелодически и приятно играли гусарский марш.
Сестры восхищались у деда полковым маршем каждый полдень.
* * * * *
В рассказе внучатых племянниц Гоголя есть неизъяснимая прелесть, простота милой домашности. Я благодарю их за рассказ, как будто еще приблизивший и Пушкина, и Гоголя. Я думаю, что, может быть, никто так магнетически странно не близок нам и нашему времени, как именно Гоголь. Он магически живет с нами, не со стороны, а внутри, в нас самих.
Я прощаюсь с сестрами, и Владимир Андреевич Савицкий уже провожает меня в темную переднюю. Я узнаю, что граф Апраскин, муж Анны Николаевны, изобрел счетную электрическую машину. Его изобретение было одобрено Французской Академией, а правительство наградило его серебряной медалью.
О третьей сестре Быковой, Наталии Николаевне, мне рассказывают, что она обладает прекрасным контральто, редкого приятного тембра, и поет солисткой придворной капеллы в Югославии, во дворцовой церкви.
В Югославии правнучка Гоголя и Пушкина была награждена медалью, а недавно и орденом Св. Саввы 5-ой степени, пожалованным ей королем Александром!
«А вы знаете ли, — говорит В. И. Савицкий, поблескивая очками, — что знамени той Миргородской лужи больше не существует. «А разве она существовала в натуре? — «И еще как… Но незадолго до революции ее засыпали, замостили и разбили даже на ней Миргородский городской сад».
Париж, 1934
Публикация Елены Дубровиной
_____________________________________________________

ЛУКАШ Иван Созонтович (1892, Петербург—1940, Париж). Родился в семье ветерана Русско-турецкой войны. Детство провел при Академии художеств, где его отец служил швейцаром и натурщиком. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Первую книгу – сборник стихов «Цветы ядовитые» выпустил в 1910 году. Участвовал в изданиях эгофутуристов, писал очерки для газет «Речь» и «Современное слово», журнала «Огонек». Горячо принял Февральскую революцию, посвятив ее героям серию брошюр. В октябре 1917 года пережил кризисные настроения, определившие перелом в его мировоззрении. Воевал против красных в Добровольческой армии. В Крыму сотрудничал в белогвардейских газетах «Юг России» и «Голос Таврии». Прошел долгий путь эмиграции Константинополь, Галлиполи, Тырново, София, Вена, Прага Берлин, Рига, Париж. Эпизоды Гражданской войны отразил в повести «Смерть» и документальной книге «Голое поле» (обе изданы в 1922 г). В Берлине вступил в содружество русских писателей «Веретено». Издал сборник рассказов «Черт на гауптвахте», повести «Дом усопших» и «Граф Калиостро», роман «Бел Цвет» и мистерию «Дьявол». В 1925 году переехал в Ригу, где сотрудничал в газетах «Слово» и «Сегодня», писал рассказы. С 1928 году обосновался в Париже, стал сотрудником газеты «Возрождение». Темы его публикаций этой поры связаны, главным образом, с русской историей и культурой. Здесь написаны и опубликованы его сборник рассказов «Дворцовые гренадеры» (1928), повесть «Император Иоанн» (1939), романы «Пожар Москвы» (1930), «Вьюга» (1936), «Ветер Карпат» (1938), «Бедная любовь Мусоргского» (1940) Умер Иван Лукаш в мае 1940 года в Париже.
Об Авторе: Елена Дубровина
Елена Дубровина — поэт, прозаик, эссеист, переводчик, литературовед. Родилась в Ленинграде. Уехала из России в конце семидесятых годов. Живет в пригороде Филадельфии, США. Является автором ряда книг поэзии и прозы на русском и английском языках, включая сборник статей «Силуэты» Составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917-1975. A Bilingual Anthology», а также составитель, автор вступительной статьи, комментариев и расширенного именного указателя к трехтомнику собрания сочинений Юрия Мандельштама («Юрий Мандельштам. Статьи и сочинения в 3-х томах». М: Изд-во ЮРАЙТ, 2018). В том же издательстве в 2020 г. вышла книга «Литература русской диаспоры. Пособие для ВУЗов». Ее стихи, проза и литературные эссе печатаются в различных русскоязычных и англоязычных периодических изданиях таких, как «Новый Журнал», «Грани», «Вопросы литературы», «Крещатик», «Гостиная», «Этажи». “World Audience,” “The Write Room,” “Black Fox Literary Journal,”, “Ginosco Literary Journal” и т.д. В течение десяти лет была в редакционной коллегии альманаха «Встречи». Является главным редактором американских журналов «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present». Вела раздел «Культурно-историческая археология» в приложении к «Новому Журналу». Входит в редколлегию «Нового Журнала» и в редакцию журнала «Гостиная». В 2013 году Всемирным Союзом Писателей ей была присуждена национальная литературная премия им. В. Шекспира за высокое мастерство переводов. В 2017 году – диплом финалиста Германского Международного литературного конкурса за лучшую книгу года «Черная луна. Рассказы». Заведует отделом «Литературный архив» журнала «Гостиная».











