Вера КАЛМЫКОВА. Сивилла и Царь-Девица.
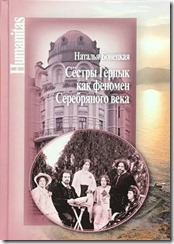 (Бонецкая Н. К. Сёстры Герцык как феномен Серебряного века. М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 768 с.)
(Бонецкая Н. К. Сёстры Герцык как феномен Серебряного века. М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 768 с.)
Философские сочинения, как правило, адресуются читателю-профессионалу, преимущественно философу и филологу. Однако, помнится, в девяностые годы произведения авторов эпохи Серебряного века осваивали все, от мала до велика; вот и книге Натальи Константиновны Бонецкой «Сёстры Герцык как феномен Серебряного века» хочется пожелать широкого культурного читателя. Кто же он?.. Какой он, каковы сегодня его интересы? Захочет ли открыть объёмистый фолиант — труд философа начала XXI века о поэте и философе начала двадцатого?.. Кому по зубам, по плечу такого рода чтение-следование, чтение-исследование?
И ведь хочется надеяться, что многим. Хотя книга не развлекательная, не лёгкая…
…но своевременная. Эпоха повального увлечения Серебряным веком, безоговорочного принятия всего его, скажем, пафоса (за неимением лучшего понятия, чтобы было и объёмным, и неконкретным) — прошло. Настал момент критического осмысления его наследия — прежде всего художественного, т.е. изобразительного и литературного, а затем и философского. И если первому, по-видимому, в нынешние времена почти не грозит переоценка, а во втором злаки от плевел будут отделены, что называется, в рабочем порядке, то с третьим возникают большие вопросы, и не только потому, что для многих само существование русской философии проблематично. Такое понимание, если и заслуживает отдельного разговора, то не здесь. Но вот смыслы русской философии — об этом поразмышлять стоит, и для такого случая книга Бонецкой бесценна, ибо в ней «сёстрам Герцык» уделяется столько же места, сколько «феномену Серебряного века», т.е. принципам тогдашнего мышления, основным направлениям ума (умов), а главное — различению добра и зла как в теоретическом, так и в жизненном и творческом — жизнетворческом, как говорили тогда — планах.
Бонецкая даёт ёмкое и объёмное представление, по крайней мере, о двух типах личности, существовавших в эпоху Серебряного века: с одной стороны, это «святой» (-ая), с другой — воинствующий богоборец. Безусловно, анализу подвергаются и явления, расположенные по линии соединения крайностей. Только так, через образы человека, становится понятно интеллектуально насыщенное и утонченное время, породившее, однако, грубый кровавый кошмар Революции.
Обычно связь одного явления с другим очевидно неочевидна; обычно мы их противопоставляем, и выходит примерно так: вот жили-были умные эстеты, никому не мешали, строили свои стеклянные замки, налетел железный вихрь, смёл замки с эстетами, до нас дошли только обломки-отголоски, которые мы и собираем, чтобы строить аналогичные твердыни уже для себя…
Однако явления не были однозначными, и Бонецкая не только показывает их двойственность, противоречивость, но и демонстрирует вредоносность. Максимилиан Волошин и Вячеслав Иванов, едва ли не канонизированные современным литературоведением, предстают на страницах её книги как «ловцы душ», причём не самого доброкачественного толка. Мы привыкли размышлять о «Башне» как о «кузнице русского стиха»; однако, желая понять явление как таковое, должны принимать во внимание, что эксперименты Иванова касались не только стиховедения, но и конкретного, иногда даже чересчур, рассмотрения проблемы пола…
Отчасти Бонецкую можно обвинить в односторонности, тенденциозности. В идеале хочется получить исследование, в котором анализ многоразличной активности того же Вяч. Иванова шёл бы с разных сторон и точек зрения: не может ведь быть так, чтобы практически осуществляемое дионисийство было никак не связано с «эллинизацией» русской поэзии. Но это тончайшая и сложнейшая материя; по-видимому, на сегодняшний день наука не располагает методикой описания подобного рода феноменов. Зато можно совершенно точно сказать, что исследование Бонецкой стоит на пути к появлению такой методологии.
В любом случае книга, далеко не первая в ряду исследований Серебряного века, даёт понять, что у сегодняшних исследователя и читателя имеется системный сбой: мы, как правило, не знаем первоисточников. Мало кто нынче открывает сочинения Ницше, ставшие пунктом отправления для множества индивидуальных духовных путешествий начала истекшего столетия. Даже читая, мысленно как бы смахиваем с изданных-переизданных, переведённых-перепереведённых текстов толстый слой мировоззренческой пыли, налетевшей за десятилетия и не в последнюю очередь — за годы литературного постмодернизма, нечувствительно отучившего нас от знакомства с текстами. Меж тем без Ницше нельзя, как показывает далеко не только одно исследование Бонецкой, понять ни психологию культуртрегеров Серебряного века — Волошина, Вяч. Иванова, Андрея Белого и др., — ни их связь с катастрофой 1917-го и меру соучастия в ней передовых творческих сил. Как пишет Бонецкая, мы имеем дело «с многоликим феноменом постницшевского христианства — плодом встречи и компромисса между традиционными христианскими воззрениями и идеями Ницше — учениями о трагедии, о сверхчеловеке, о необходимости “переоценки всех ценностей”». Что это за феномен, как он развивался, влиял на умы и события — этому посвящена не одна страница исследования.
Но ведь мы также не читаем ни Иванова, ни Волошина, ни Соловьёва, ни Шестова и т.д. Иначе с наших глаз давно уже спали бы различные пелены — от ничтожения русской философии до её идеализации, — и мы сумели бы расположить смыслы в исторически отведённых им нишах или на естественных путях и перепутьях, интерпретировав их в соответствии с тем, как написаны оригинальные произведения. Мы же, напротив, осуществляем подмену: вместо сочинений Соловьёва читаем чьи-то, неважно чьи, подвергшиеся цензурному запрету в СССР, отчего неизбежна идеализация, героизация, герметизация и проч. мысли, а сама суть её оказывается или невоспринятой, или искажённой.
И Аделаида, и Евгения Герцык уже с юности проходили через горнило «Так говорил Заратустра» и других сочинений Ницше (как мы знаем, Евгения была переводчиком «Сумерек кумиров», «Утренней зари» и первой главы «Воли к власти»). «На протяжении 1900-х годов Евгения и Аделаида не раз возобновляли свою переводческую работу над текстами Ницше <…>, — отмечает Бонецкая. — Ницше был их “вечным спутником”, постоянным внутренним собеседником». И здесь исследователь очень близко подходит к величайшей — и, заметим, нерешаемой — культурно-психологической проблеме воздействия того или иного явления на разных людей: результаты восприятия одних и тех же тезисов великого имморалиста по-разному отозвались в душах сестёр, формировавшихся в одной и той же среде, друживших с одними и теми же людьми, любивших и понимавших друг друга. Если для Аделаиды Ницше оказался вехой на пути к обретению своего рода «святости», то Евгения получила из тех же максим силу для увеличения внутренней пассионарности, вплоть до страсти к разрушению и отказа от христианства к концу жизни. «Отчего ликуешь в душе, когда слышишь о зле, об опасности?» — эти слова Царь-девицы Евгении Герцык, бесстрашно «расковывающей» силы зла в собственной личности, могут многое сказать о подлинной духовной атмосфере эпохи.
Бонецкая верна заявке, сделанной в самом начале: ей важно показать духовный путь сестёр Герцык, проследить формирование их мировоззрений, осуществлявшееся в насыщенной интеллектуальной среде. Поэтому в книге так много страниц посвящено анализу дионисийства Вяч. Иванова, аполлонизма Волошина, экзистенциализма Льва Шестова, соловьёвской Софиологии и др. Всё это, с одной стороны, также стало результатом усвоения ницшевских идей. С другой — возможно, образ немецкого философа немножко слишком много места занимает на страницах книги. Возможно, некоторый перекос в сторону ницшенизации интеллектуального облика Серебряного века всё же осуществлён Бонецкой: нельзя же, в самом деле, совершенно игнорировать стремление к эстетике, «чистому искусству», освобождённому от социальных подтекстов, во многом определившее направление идейных поисков. Однако даже с учётом такого крена работа Бонецкой представляет огромный интерес, ибо подводит нас к более объективному представлению о том, какова же была суть исканий и что же за послание оставили нам деятели искусств и философы предреволюционных лет.
Заметим, что Серебряный век был, вероятно, едва ли не единственной эпохой европейского развития, когда, во-первых, на формирование личности внешние факторы не влияли без согласия этой личности. Во-вторых — это время синхронности внутреннего становления образованного европейца и россиянина. Оценивая ретроспективно, этот период можно было бы назвать эпохой свободы — и неслучайно в это время творчески осуществили себя десятки, если не сотни деятелей мысли и искусства. Среди них сёстры Герцык, конечно, звёзды не первой величины, и Бонецкая сама это понимает. Однако и Аделаида, и Евгения обладали выраженной индивидуальностью и сформировались в то время, когда — впервые в мире и в России — женщина получила возможность реализовываться и действовать в полноте своего творческого дара, если таковой имелся, или своего побуждения, помысла. Предоставим, в конце концов, слово Наталье Бонецкой, которая лучше любого рецензента объяснит свою задачу:
«Почему поэтесса Аделаида Герцык вместе с сестрой Евгенией Герцык — эссеистом и переводчиком — представляются автору “феноменом”, симптомом культурной эпохи? Почему автор наделяет этих скромных женщин, считавших свою жизнь абсолютно приватной, а творчество — камерным, почётной ролью выразителей эпохального духа? <…> Заинтересовавшись в свое время феноменом сестер Герцык и попытавшись вжиться в экзистенциальную ситуацию каждой из них, я увидела, что размышлять о них значит параллельно осмысливать если не весь Серебряный век, то хотя бы ключевые его тенденции. Судьба ввела этих интеллигентных провинциалок в самое жизненно-творческое средоточие тогдашней культурной элиты. Их принял и воспринял цвет Серебряного века. И, вглядываясь в их образы и биографии, видишь, что в этих феноменах, как в зеркалах, отражены лица мыслителей и поэтов, составивших славу эпохи, — размышления же над их творчеством немедленно вбрасывают в водоворот тогдашних философских и религиозных исканий. <…> Сёстры Герцык не были творцами эпохи, — напротив, эпоха сотворила их своими таинственными импульсами и наитиями».
Откровения Владимира Соловьёва о святой Софии, антропософия, неоязычество, новое религиозное сознание и многие другие идейные комплексы затронули восприятие сестёр Герцык. Общаясь с Волошиным или Вяч. Ивановым, они не могли не получить — одна свой миф, вторая мифологическую мету. Так Аделаида Герцык стала Сивиллой, пророчицей, Евгения же, избежавшая мифологизации со стороны, по воле собственного сознания превратилась в андрогина, внутренне слепленного ею самой по соловьёвскому рецепту. Опять-таки автора можно упрекнуть и в том, что героини исследования как бы потонули в контексте собственного формирования; чтобы понять ту или иную фразу, допустим, в стихотворении или дневнике одной из сестёр, Бонецкая отдаёт много страниц анализу учения то Шестова, то Бердяева. Но обязателен ли такой упрёк, если подобный анализ входил в авторскую задачу, обозначенную буквально на первой странице? Всё-таки любое создание следует судить по-пушкински, т.е. по законам, автором самим над собою признанным…
Словом, исследование Натальи Бонецкой вне всякого сомнения найдёт своего читателя. Другое дело, что рецензенту хотелось бы, чтобы оно разошлось как можно более в широкой аудитории — обществу полезно развенчивать кумиры и под развалинами обнаруживать жизнь. Посмотрим, однако: слово за читателем.
Об Авторе: Вера Калмыкова
Вера Владимировна Калмыкова (р. 1967) - поэт, член Союза писателей г. Москвы, кандидат филологических наук, автор монографий и статей по истории искусства, шеф-редактор журнала "Философические письма. Русско-европейский диалог", куратор художественных выставок. Публиковалась в журналах "Арион", "Вопросы литературы", "Дружба народов", "Знамя", "Нева", "Октябрь", "Плавучий мост", "Урал" и др.



