МАРК ЭПШТЕЙН ● ДВАДЦАТЬ СЕМЬ СВЕЧЕЙ ● СТИХИ
 Где, бальную взбивая пену
Где, бальную взбивая пену
и веки сонные смежа,
ночь на пуантах через сцену
бежит уснуть до мятежа,
на стыке поля и окраин,
где воздух злобою пропах, –
вегетерьянствующий Каин,
смирив гордыню впопыхах,
из темной ямы оркестровой
греха не видит на враге
и слово держит наготове –
как нож сапожный в сапоге
***
Не разгорается свеча,
и звезды катятся немые…
Была бы царственной парча,
но тянет нити золотые
из полуночного холста
кошачий август понемногу,
и это, верно, неспроста,
что тень колючего хвоста
пересекла мою дорогу.
Ах, не мистическая вязь –
причинно-следственная связь:
переполняет чашу капля…
И я ушел, благословясь,
до окончания спектакля.
***
Что с того, что гневливый Ахилл, сын Пелея, всегда быстроног?
Все всегда под рукой – даже жены в Ахайе далекой.
Столько лет миновало. Пространство сложив, как платок,
созерцали мы вечность у прекрасной Елены на щеках.
Столько лет миновало… Вчера мы сожгли Илион.
К сожалению. Камня на камне… Да верно ль читали мы знаки?
Одиссей возвращается к лучшей, вернейшей из греческих жен
и, наверное, скоро умрет. Как герой. У себя на Итаке.
***
Я боюсь, не гляжу назад.
Слышишь, брат, уходи с ничьей.
Я вдохнул, и закрыл глаза,
и задул двадцать семь свечей.
Я боюсь, не гляжу назад,
никого за столом со мной.
Можешь в спину мою бросать
мокрой шапкою меховой.
Никого за моим столом.
Торт нарезан да рот щербат –
Не укусишь. Молчим вдвоем.
Эка скушно с тобою, брат.
Не люблю тебя, сироту,
шерсть козла приучил к плечам…
………………………
И отсутствие зуба во рту
компенсирует свист по ночам.
***
Друга друг отразят зеркала
и водой, замерзающей в кране,
чтоб на духа святого хула
застрева…застревала в гортани,
чтобы Бог отвечал из куста
нетерпению сердца ли, губ ли,
чтобы мысль попадала в места,
где оставил отверстие бублик,
обозначив, где нынче парил,
окончание всякого срока
четырьмя – как у мельницы крыл,
восемью сторонами востока,
ощутив приближенье земли
(видишь – тучи сошлись в перебранке,
отвергая наличьем Ильи
притязания лейденской банки),
опускается ангел, свечей
не задув – потревожив немного.
Светлый мальчик сидит на плече.
Удлиняется тень до порога.
***
Коль по-прежнему ветер спешит
небеса в чисто поле
опрокинуть за гибель души,
во спасение воли,
чище пар от кровавых ноздрей,
и покажется сдуру
переменою участи всей –
обжигающий шкуру
этот холод и снег, эта синь.
Эта пустынь без тени святынь.
***
Белый пепел плевел – пыль и труха
с юга, с севера – и в горле першит.
Только это, человек, чепуха:
петухами воздух вышит, прошит,
что Кащеевой чудесной иглой
(хочешь – гладью, а хочешь – крестом),
и никак не перепачкать золой
всё, что выстирано в доме моём.
Хорошо, что никого за спиной.
Только ангел мой бредёт и земля
прорастает бесполезной травой
там, где след от моего костыля.
Ты свищи меня, ищи по следам
(видно, бес моё тревожит ребро).
Вот наступит осень – крикну «Сезам»,
в зазеркалье уходя, в серебро.
ДОРОГА
1
Наблюдая движение воль
к большей воле, заметить не тяжко:
перемены приятны не столь,
как тебе показалось, дурашка.
До свидания, милый. Ту-ту…
По-славянски, с еврейским ли фартом,
если сдержишь словесность во рту,
непременно закончишь инфарктом.
2
Я покидаю сей приход,
где парни тискают девицу
и мышка Божия грызет
пред ликом грозным чечевицу
ночами. Пальцы вознеся
свечами, я уже не внемлю
речам с гражданского креста,
зовущим Бога как мента
на охладевшую к ним землю.
3
На фотографии глянцевой
(утром в альбом прилепи)
поезд идет с новобранцами,
курвами и иностранцами:
турком, чухною, испанцами.
Память теряется станцией
в белой оглохшей степи.
4
Мы уйдем, не оставив следа:
эти – в стаде, а те – в одиночку.
Нас кривая уводит туда,
где она превращается в точку.
Значит, если посмотришь назад,
не заметишь – Китай ли, Россия…
Все приметы стирает подряд
благодетельная амнезия.
Словно дома сидишь на мели,
но, немного хлебнув из флакона,
забываешь тревоги земли,
пораставшей зубами дракона.
После – ночь и туман. И кремнист
путь, блеснувший поэту когда-то.
На плечо опускается лист
из божественного самиздата.
Время зимнему сбору камней.
Если ноша обманет: легка я, –
время миру, ты скажешь, свиней,
к бусурманской дали привыкая…
………………………
Но окажется жизнь длинней.
5
Иных уж нет, а те – далече,
и тем вернее, чем мудрец
скорее скажет: право, нечем
нас обездолить, наконец.
6
За последним ударом вокзальные вздрогнут часы,
поприветствовав слишком круто пошедшую в гору дорогу.
И в разбитой мозаике подстаканников, кур, колбасы
человек, не спасая костюмов, не молится Богу.
Не спешит ни в кабак, ни в бардак, ни в пустыню, ни в порт,
рад, над степью кружа машиниста последнею волею,
оттого что унылый пейзаж превращается в натюрморт,
удаляясь от глаз на версту. Чем быстрее, тем – более.
***
Мёртвых веток чугунные плети,
и лицо начинает гореть.
Буря мается, плача, как дети,
и не может никак умереть.
И, казалось, – не нужно и глупо,
и опасно вставать во весь рост,
где надёжно заваренный купол
обнадёживал россыпью звёзд.
Говорила ль звезда со звездою?
Никогда. Над моей головой
открывалось окно слуховое –
хохотали всю ночь надо мной.
Ну и что? В этом хоре невольных
белый хаос. Стрелец, водолей,
что бессмысленный ваш треугольник,
если нет чудной скрипки моей?
Видишь, Бог, защититься мне нечем,
но лежат на ладонях твоих
первородная речь человечья
и бессмертное блеянье – их…
Об Авторе: Марк Эпштейн
Поэт, переводчик. Член Одесской областной организации Конгресса литераторов Украины (Южнорусский Союз Писателей). Произведения публиковались в Одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008), в журнале «Октябрь», в одесской, украинской и зарубежной литературной периодике. Автор поэтической книги «Перемена участи» (2002).

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы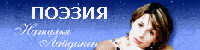 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

