МИХАИЛ ЭПШТЕЙН ● ПОСТУПOK И ПРОИСШЕСТВИE. К ТЕОРИИ СУДЬБЫ
 …Таинственная, загадочная сила, которую все ощущают, которой не в состоянии объяснить ни один философ и от которой религиозный человек старается отделаться несколькими утешительными словами.
…Таинственная, загадочная сила, которую все ощущают, которой не в состоянии объяснить ни один философ и от которой религиозный человек старается отделаться несколькими утешительными словами.
И.В. Гете [1]
Предисловие
Почему мы заводим разговор о судьбе в начале XXI века? Разве не сдано это понятие уже давно в архив суеверий?
В истекшем столетии «судьба» отменялась, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, как пережиток религиозных идей и институций, унижающих свободу и достоинство человека. Вера в судьбу объяснялась невежеством и рабством прошлых веков, идеологией правящих классов, условиями жизни в эксплуататорском обществе, чему должны положить конец просвещение, эмансипация, революция. Если человек, как принято было говорить, «сам становится хозяином своей судьбы», то понятие судьбы тем самым отменяется и превращается в простой синоним жизни, всех событий существования.
С другой стороны, понятие «судьбы» проходило процесс демистификации, как превращенная форма обозначения объективных обстоятельств и структур — экономических, социальных, культурных, языковых, определяющих жизнь и сознание человека и задающих границы его свободе. Роль судьбы в новом, научном мировоззрении отводилась законам биологической эволюции, историческим обстоятельствам, производительным силам, общественным отношениям, воле масс, подсознанию («оно») и сверхсознанию («Сверх-Я), статистическим закономерностям (игре больших чисел), генетическим программам, глубинным структурам языка и знаковым системам культуры. Эта демистификация судьбы действовала на протяжении всего ХХ века, в таких разных мировоззрениях, как дарвинизм, марксизм, психоанализ, структурализм, постструктурализм, различные теории эволюционного, генетического и культурного детерминизма. Именно детерминизм является общим знаменателем этих столь разных мировоззрений, которые, как ни странно, объединяются тем самым понятием «судьба», которое они исключают и которому пытаются найти более рациональную замену.
Две указанные причины «отмены судьбы» — эмансипация и детерминизм — связаны между собой и вместе приводят к противоречивому результату. Человек становится как бы безгранично свободен — и тут же закрепощается новыми зависимостями, в сущности, более тяжелыми и безысходными, чем старинная «судьба». Судьба может шутить, играть, быть благосклонной, милостивой — у нее в запасе есть те дары и щедроты, лазейки и обходные пути, в которых отказывает человеку новейший детерминизм.
Мы возвращаемся к понятию судьбы, потому что полагаем, что оно далеко не исчерпало своего потенциала в современной культуре. Хотя оно не часто встречается у современных философов, крупнейшие писатели ХХ века строили свои художественные миры вокруг концепции судьбы, которая неотделима от самого способа художественно-повествовательной организации событий в тексте. Кафка, Джойс, Г. Гессе, Р.-М. Рильке, Х.Л. Борхес, В. Набоков, Т. Уайльдер, Гарсиа Маркес — в центре их творчества находится метафизика и персонология судьбы. Эти художественные интуиции нуждаются в новой рефлексии, которая, наследуя таким мыслителям, как О. Шпенглер, Г. Зиммель, К. Юнг, позволит заново ввести «судьбу» в концептуальное поле философии и других гуманитарных дисциплин.
С другой стороны, и современная наука заново пробуждает интерес к судьбе как результирующей множества случайностных, статистических, стохастических процессов, которые изучаются теорией «хаосложности» (chaoplexity). По сути, именно поле смыслов, покрываемых традиционным понятием «судьба», находится в центре этой дисциплины, возникающей на стыке математических, естественных, информационных наук и изучающей нелинейные, непредсказуемые процессы, зависящие от взаимодействия множества случайных факторов.
Приведу свежий пример. Одно из новейших имен судьбы — «вездесущность» (ubiquity), которым Марк Бьюкенен характеризует те критические состояния и структурные «обвалы», которые вызвали столь разные события, как гигантское землетрясение в Кобе (Япония) в 1995 году; пожары, опустошившие Йеллоустонский парк (США) в 1988-м; обвал финансового рынка в 1987-м; начало первой мировой войны; всепланетную гибель динозавров. Этот же закон действует в передвижении песчаных масс, в заторах уличного транспорта, в распространении массовых эпидемий. Собранные Бьюкененом факты и свидетельства ведущих ученых в самых разных дисциплинах подводят к общему заключению, что любая система по мере развития выходит из состояния стабильности и оказывается на пороге таких необратимых, катастрофических перемен, которые были, есть и навсегда останутся абсолютно неизбежными и абсолютно непредсказуемыми. Эта неотвратимость и непредсказуемость, которая раньше называлась «судьбой», и есть то самое «вездесущие», которое с равной непреложностью действует в природе и в обществе, в эволюции и истории [2].
Вообще у судьбы много имен, которые отражают не только ее бытование в разных культурах и религиозных традициях, но и стремление людей по-разному, иносказательно ее именовать, отчасти для того, чтобы прямым именем не накликать тех действий судьбы, которых хотелось бы избежать. Судьба, судьбина, рок, доля, удел, участь, удача, случай, жребий, фортуна, фатум, мойра, парка, промысел, провидение, предопределение… В данной работе для нас важна не эта историческая и лексическая пестрота, а общность того понятия, которое за ними стоит и наиболее прямо обозначается как «судьба».
Обычно судьба противопоставляется свободе как сила, управляющая ходом человеческой жизни независимо от его сознания и воли; как непостижимая предопределенность событий, высший закон и порядок, имеющий неминуемые последствия для каждого. В данной статье мы попытаемся обрисовать то смысловое поле, которое предшествует расщеплению понятий «свобода» и «судьба» и их дальнейшему расхождению на, казалось бы, несовместимые крайности волюнтаризма и фатализма.
1. ТРИ ТИПА СОБЫТИЙ
В жизни человека можно выделить три типа событий. События, которые свершаются с ним по его собственной воле, в силу тех или иных принятых им решений, могут быть названы поступками, ибо они задаются самим субъектом действия. Так, например, человек выбирает себе профессию, или заводит семью, или меняет место жительства, или определяет свою позицию в политической борьбе… Область событий-поступков изучается науками о человеческом поведении, его побудительных мотивах и общезначимых критериях — психологией и этикой.
Вторая категория событий, прямо противоположная первой, включает происшествия, т.е. события, в которых человек является не субъектом, но как бы объектом чуждой воли, жертвой некоего сверхличного стечения обстоятельств. К такого рода происшествиям относятся аварии, катастрофы, кораблекрушения, проигрыши и выигрыши в рулетку и лотерею, неожиданные встречи, инфекционные заболевания… Эти события управляются игрой случая, хотя и в них можно отыскать определенную закономерность — статистического, сверхиндивидуального порядка. Например, каждый год на дорогах США происходит около 40 тысяч дорожных происшествий со смертельным исходом — отсюда следует вероятность, с какой каждый житель этой страны может стать жертвой несчастного случая. Область событий-происшествий изучается статистикой, математической теорией вероятностей, а также новейшими комплексными теориями хаоса и сложности.
Наконец, третья категория событий представляет для нас наибольший интерес. Это события, свершающиеся не по воле отдельного человека, но и не по воле случая, а в силу определенной закономерности, с какой поступки человека ведут к определенным происшествиям в его жизни. События такого типа можно называть свершениями — в них как бы завершается то или иное действие, начатое человеком по собственной воле, но затем вышедшее из-под его ведома и контроля. В свершениях то, что свершает сам человек, затем совершается с ним самим: он предстает как объект того воздействия, которое прямо или косвенно вытекает из действий, предпринятых им как субъектом.
Приведу простые примеры из классической литературы. Девушка влюбляется в молодого человека, но он пренебрегает ею, желая сохранить свободу одиночества; когда же эта свобода становится ему постылой, он влюбляется в ту, которой когда-то пренебрег, но она уже принадлежит другому. Эта сюжетная схема «Евгения Онегина» — образчик работы судьбы, которая превращает героев в объекты их собственных действий.
Другой пример: поручик Вулич благополучно испытывает свою судьбу, играя в русскую рулетку; но, уберегшись от выстрела в себя (осечка), он через полчаса погибает, подвернувшись под саблю пьяному казаку. В «Фаталисте» Лермонтова сама готовность героя ставить свою жизнь на кон, подвергать ее случаю вызывает ответное действие случая, который тем самым становится уже как бы не совсем случайным.
Третий пример: бедный чиновник, с любовью и прилежанием выполняющий труд переписчика, начинает мечтать о приобретении новой шинели, ценой долгих лишений достигает заветной цели, но в ближайшую ночь грабители отнимают у него шинель, и он умирает от горя и болезни. То, что свершается с героем в «Шинели» Гоголя, сколь ни случайным представляется эпизод уличного разбоя, есть продолжение его собственной линии поведения, вдруг отклоняющейся от любимой привычки, от смиренного труда и заведенного хода будней, как будто судьба норовит восстановить равновесие, нарушенное человеческим произволом, и ответным ударом сметает причину всех возмущений в ровном ходе существования.
В трех приведенных выше классических примерах мы имеем дело с третьим разрядом событий — свершениями (литература вообще отдает им предпочтение, о чем будет сказано в следующей главе). Свершения отличаются от поступков и происшествий тем, что как бы содержат в себе собственное начало и конец и обнаруживают действие судьбы на всем его протяжении.
Поступки и происшествия — это тоже по глубинной сути своей свершения, только с затерянными началами и концами. Поступок — свершение с неясным концом, а происшествие — с неясным началом.
В отличие от художественных произведений, реальная жизнь полна именно таких разрозненных поступков и происшествий. В большинстве случаев нам неизвестно, как отзывается в судьбе человека тот или иной поступок или по каким причинам он попадает в то или иное происшествие.
Есть много попыток объяснить это неизвестное, связать происшествия с невидимыми причинами, а поступки — с невидимыми последствиями. Есть теории, что все так называемые происшествия имеют начало в том времени судьбы, когда человек еще не родился, или в самих обстоятельствах его рождения. Так, индийское учение о карме рассматривает все случайности человеческой жизни как закономерное следствие его поступков, совершенных в прошлых существованиях. Карма — это сумма-баланс поступков, совершенных живым существом за все его воплощения, и их последствий, определяющих его судьбу в последующих рождениях. Оккультно-эзотерические традиции Запада предлагают свои объяснения неведомым трансцендентным причинам событий. Так, астрология рассматривает все случайности как предопределенные положением небесных тел в день появления человека на свет.
Точно так же все поступки, вытекающие из воли человека, но не имеющие ясного и видимого завершения в земной жизни, могут рассматриваться как свершения с неизвестным, потусторонним концом. Например, учение о загробных наказаниях и воздаяниях, о рае, аде и чистилище, устанавливает взаимозависимость всех поступков с посмертным существованием человека. Можно, таким образом, различать теории всеобъемлющих причин, объясняющих любые происшествия, и теории всеобъемлющих последствий, вытекающих из любых поступков.
Итак, поступки и происшествия — это всего лишь неполные, односторонние свершения, чьи начала или концы упрятаны во времени Судьбы, предшествующем рождению человека или следующем за его смертью. Однако только свершения, замкнутые временем человеческой жизни, поддаются строгому рассмотрению. Теория судьбы в целом должна строиться прежде всего на анализе событий-свершений, в которых определима связь поступка и происшествия. Если в конкретном жизненном материале мы постигнем закономерности, управляющие человеческой судьбой, то затем сможем распространить их (в виде гипотезы) и на пред- и послежизненные моменты в цикле человеческого бытия. Тогда мы сможем указать черты свершения в каждом поступке, который совершается человеком, и в каждом происшествии, которое свершается с ним. Тогда и учения о карме, о влиянии звезд, о рае и аде приобретут конкретность и доказательность, какие свойственны наукам, изучающим посюсторонний мир.
Но чтобы открылся путь к познанию всех событий как свершений, нужно рассмотреть прежде всего свершения в собственном, узком смысле слова, отделяющем их от поступков и происшествий.
2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СУДЬБЫ
Ключ к пониманию судьбы может дать искусство, особенно литература, которая благодаря своей повествовательной технике раскрывает смысловую последовательность человеческих судеб. Именно искусство тяготеет к постижению человеческой жизни как цепи свершений, в которой все звенья связаны и каждое начало приводит к определенному концу. Эта завершенность, нелюбовь к разомкнутому и случайному, с одной стороны, к жестко предумышленному и предопределенному — с другой, придают искусству особый интерес для изучения человеческой судьбы и отличают эстетическое от эмпирического и логического.
Разные направления и стилевые доминанты в искусстве можно характеризовать в зависимости от их ориентации на разные типы событий. Если психологизм в искусстве направлен на объяснение и мотивацию поступков, а фабульность соотносится с остротой и неожиданностью происшествий, то эстетическая ценность произведения определяется не столько его психологической глубиной или фабульной остротой, сколько внутренней завершенностью — свершенностью всех событий, замкнутостью начал и концов. Это относится не только к его внешне-композиционной стройности, но и к смысловой завершенности изображенных в нем действий, слагающихся в целостность судеб.
Художественное произведение начинается и кончается в границах свершения, которое может охватывать часть одной жизни или совокупность многих жизней. Если вне искусства мы обычно говорим о жизни, то искусство говорит именно о судьбе, т.е. о жизни, понятой во взаимосвязи поступков и происшествий — всех событий, образующих цельные свершения.
Жизнь без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай…
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы, ты знай,
Где стерегут нас ад и рай, [3]
Александр Блок здесь дает почти математическую по точности формулу искусства как сферы свершенности. Художник должен знать прежде всего начала и концы жизни, а гениальный художник — и те начала и концы, которые выходят за пределы видимой жизни («ад и рай»). Искусство — это искусство превращения жизни в судьбу, а бессвязных поступков и происшествий — в свершения.
В этой связи можно оспорить известный тезис французского писателя и мыслителя Андре Мальро: «Искусство — это анти-судьба» [4]. Мальро исходил из экзистенциалистской позиции: если в жизни все навязано человеку извне, то в искусстве он творит свой свободный выбор. Это верное наблюдение, но из него сделан ложный вывод. Именно потому, что искусство есть свобода, оно выходит за пределы данной нам жизни и выявляет в ней судьбу, обнаруживает такую завершенность и закономерность, которые не вмещаются в границы самой жизни. Все то, что в жизни разомкнуто, бессвязно, поделено между человеческим произволом («поступки») и игрой случайности («происшествия»), все это в искусстве обнаруживает логику свершения и красоту завершенности. Искусство есть анти-жизнь, но именно поэтому оно и есть торжествующий образ Судьбы. Судьба больше жизни, поскольку вводит в действие те началы и концы, которые не вмещаются в пределы рождения и смерти. Жизнь Родиона Раскольникова или Дмитрия Карамазова, Пьера Безухова или Анны Карениной романически явлена в ее судьбоносной значимости: в связанности начал и концов, преступления и наказания, измены и гибели, вины и осуждения, произвола и вышней воли… Искусство — это жизнь, соотнесенная со своими незримыми началами и концами и тем самым являющая образ судьбы. Претворение жизни в судьбу и составляет алхимию искусства. Как верно замечает Освальд Шпенглер, словно бы в заочном споре с А. Мальро, «идею судьбы можно сообщить, только будучи художником, — через портрет, через трагедию, через музыку» [5].
Судьба может быть длиннее или короче жизни, обнаруживаться до развязки или в конце эпилога. Вот почему Пушкин покидает Онегина так внезапно, «в минуту злую для него», ведь судьба Онегина свершается именно в этот миг, когда он все еще стоит на коленях перед покинувшей его Татьяной и появляется ее муж. Жизни Онегина еще суждено продлиться, но судьба его решена, очерчена во всей полноте; его стремление к одиночеству, к пустынной свободе, пренебрегающей тяготами любви и дружбы, полностью осуществляется и получает свое воздаяние в этом, казалось бы, мимолетном эпизоде. А для изображения судьбы Акакия Акакиевича, наоборот, Гоголю понадобилось перенестись за пределы его жизни, в посмертье, потому что только в проделках привидения, снимающего шинели с проезжих, сказываются последствия его сделки с нечистой силой в лице одноглазого портного Петровича… Границы судьбы не совпадают с жизненными сроками.
У самого писателя судьба, как правило, намного длиннее жизни, отдаваясь за ее пределом все новыми свершениями, узорами смысловых повторов и совпадений, — как у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого. Поэтому судьба художника часто становится предметом метаискусства, разнообразных легенд, мифов, сверхповествований, которые обнаруживают судьбоносность жизни того, кто искал и показывал действие судьбы в жизни своих персонажей.
Искусство, концентрируя в себе судьбоносность жизни как свершения-завершенности, представляет идеальный объект для исследования судьбы. Конечно, теория судьбы не ограничивается эстетикой — она имеет свою этику (по отношению к реальной, внехудожественной жизни) и свою мистику (по отношению к потусторонней, трансфизической жизни)… Но начать построение этой теории удобнее всего именно с эстетики, поскольку она, в отличие от этики, не включает незавершенных, спонтанных поступков и, в отличие от мистики, не имеет дела с безначальными, немотивированными происшествиями. Основания теории судьбы как науки лежат в эстетике.
3. РЕЛИГИОЗНОЕ ПОНИМАНИЕ СУДЬБЫ
Однако эстетическая концепция судьбы не может нас полностью удовлетворить, поскольку, простираясь на начала и концы событий, она пренебрегает их асимметрией, которая коренится в асимметрии самого времени.
С эстетической точки зрения происшествия имеют причину в каких-то отдаленных поступках, а поступки имеют следствия в каких-то отдаленных происшествиях, и вместе они образуют симметрическую связь свершений. Но в действительности все обстоит не совсем так. Происходит накопление и возрастание смысла во времени. Смысл того или иного события лежит не столько в его причинах, сколько в тяжести и ответственности его последствий. Отсюда удивительное чувство свободы, которое мы испытываем на рубеже совершения того или иного поступка. У него нет безусловных причин ни в настоящем, ни в самом отдаленном прошлом. Мы властны совершить его или не совершить. Но как только он совершен, ничто не в силах отменить его, и вся предыдущая жизнь начинает представляться цепью событий, необходимо ведущих именно к этому, а не другому поступку. Все наше прошлое по-новому перестраивается и заряжается смыслом из настоящего, в котором мы свободны перед лицом будущего, которое, в свой черед, придаст нашему настоящему столь же строгий, неотменимый смысл.
То же самое относится и к происшествиям. Наша первая реакция на происшествие — изумление перед его непостижимой и непредсказуемой случайностью и попытка найти его причину в прошлом, пусть самую отдаленную, но необратимо ведущую к данному происшествию. Этот трудный вопрос ставится в библейской Книге Иова. Внезапно пораженный проказой, смертью детей, разорением, Иов спорит с друзьями, которые пытаются доказать ему, что Бог справедлив и что если судьба наносит Иову удар за ударом, значит, в прошлом, быть может, еще до рождения, в других существованиях, он совершил какой-то грех. Епифаз: «Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет конца» (Иов, 22:5). Иов же отрицает наличие своей вины и какой бы то ни было причины у злого стечения обстоятельств, вызывая самого Бога на суд: «…Пути Его я хранил, и не уклонялся» (23:11). «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» (16:21)
И Бог, обращаясь к Иову из бури, подтверждает его правоту в споре с его друзьями — рационалистами и детерминистами. Исток бедствий Иова — не в каких-то его небывших винах, не в объективных причинах, а в свободном волении самого Бога, который не отдает отчета в своих мотивах никому из своих созданий. «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь» (38:4). Бог не обсуждает с Иовом моральных проблем вины, справедливости, возмездия, но рядом простых «космологических» вопросов раскрывает несоразмерность их волений: можешь ли ты сделать то, что я сделал, можешь ли ты создать радугу, или коня, или бегемота, можешь ли управлять движением светил?
При поверхностном чтении кажется, что Бог вообще не отвечает на вопрос Иова и говорит о чем-то другом: о своем величии, о красоте мироздания, минуя нравственную сущность спора, как будто речь Бога — это отрывок из другой книги, механически приставленный к рассказу о бедствиях Иова. Но суть ответа именно в том, что бедствия Иова не имеют причины — и в этом Иов прав перед своими друзьями, которых Бог порицает: «вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» (42:7). Промыслительный характер этих бедствий — не в возмездии Иову за его прошлое, а в уроке на будущее, уроке всемогущества Божия, который Иов в конце концов готов полностью воспринять: «И отвечал Иов Господу, и сказал: Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. <…> Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (42:1, 2, 6). Иов раскаивается здесь не в той вине, которая якобы навлекла на него возмездие Бога и стала причиной его несчастий, а в том, что он требует у Бога отчета за незаслуженные им бедствия. После чего Господь возвратил Иову все его потери, благословив его долгой жизнью, детьми и обширными стадами.
Как ни толковать эту историю, очевидно, что судьбоносность всего, что приключилось с Иовом, лежит не в поступках самого Иова, предшествовавших его бедствиям, а в тех выводах, которые он и его друзья извлекают из этих бедствий. События в книге Иова — это, по нашей классификации, такие происшествия, которые судьбоносны в силу своих следствий, а не причин. Именно в этой асимметрии заключена тайна человеческой свободы, встреча которой с абсолютной свободой Божьего воления и составляет феномен судьбы.
В Евангелии от Луки мы находим поразительное откровение о беспричинности, но небеспоследственности так называемых несчастных случаев и роковых происшествий. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли Вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю Вам; но если не покаетесь, то так же погибнете. Или думаете ли, что те осьмнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лука, 13:1–5).
Парадокс этого рассуждения в том, что погибшие погибли не из-за своей вины — они не были греховнее тех, что остались жить; но те, что остались жить, могут погибнуть уже по своей вине, потому что перед их глазами есть пример тех, кто погиб, не успев раскаяться. Получается, что гибель людей и связана, и не связана с их виной, причем это относится к одному и тому же событию, такому характерно-случайному «происшествию», как падение Силоамской башни. Говоря о мертвых, Христос обращается к живым, и, отрицая причину гибели мертвых, обращается с призывом, который мог бы предотвратить гибель живых. Те люди погибли не из-за своей вины, но вы, если не покаетесь, погибнете по своей вине.
В этом суждении есть глубокая неожиданность, нарушение привычной логики: настоящее невыводимо из прошлого, но будущее определяется настоящим. В основании судьбы лежит свобода. Между прошлым и будущим нет симметрии, ибо сейчас, в настоящем, человек наделен свободой, может раскаяться и, значит, отвечает за то, что случится с ним впредь. Нет вины на погибших, но есть ответственность на живущих. Христос судит не от события (падения башни) к причине, устанавливая строгую обусловленность, «детерминизм» происшествия, но от события к следствию, устанавливая свободу человека в определении своей участи. Так исчезает ложная симметрия времен, обнаруживается несовпадение «опричинивающего» рассудка (выводящего причины настоящего из прошлого) и освобождающей веры (предвосхищающей в настоящем последствия для будущего).
В отличие от индийских концепций кармы и астрологического детерминизма, концепция судьбы, сложившаяся в иудео-христианстве, обнаруживает не равновесие причин и следствий, но непрерывный рост судьбоносного начала в жизни людей, как бы подготавливая их к окончательному исполнению судеб, к Страшному суду. Такая религиозная концепция, как это ни странно звучит, более реалистична, чем эстетическая, поскольку она устанавливает свободу человеческих поступков и необъяснимость, но сверхзначимость роковых происшествий.
То, что мы переживаем ежедневно свое существование как набор случайностей, внезапных мелких капризов и поворотов судьбы, вряд ли может быть перенесено прямо, в сырой достоверности, на художественное полотно или в литературное произведение, — покажется неубедительным, произвольным. Но именно так мы и живем: сегодня сломалась коронка от зуба, завтра налетела буря и сорвала крышу дома… Жизнь кишит случайностями. В каком же смысле они не случайны?
В том ли смысле, что за каждой из случайностей стоит определенная, хотя и не всегда известная нам, причина: расположение небесных тел в момент рождения или тяжелая карма, унаследованная от прошлого существования? Религии, устанавливающие четкий баланс причин и следствий для каждого происшествия, по-своему эстетичны, они обнажают некую сюжетную связь в трансфизических перевоплощениях субъекта. Но сырая повседневность делает такой поиск причин за каждой случайностью занятием утомительным, натужным и отчасти смехотворным.
Может быть, эти случайности и должны оставаться онтологическими случайностями, т.е. проявлением непостижимой для нас свободной воли, лежащей в основании всего? И неслучайны они лишь в том смысле, в каком сопряжены с последствиями и выводами, которые мы сами из них делаем, чтобы «не погибнуть», чтобы строить дом, не поддающийся бурям? Иными словами, от нас самих зависит, превратить ли происшествие в поступок, т.е. действовать «наоборот», вопреки той причинно-следственной связи, которая устанавливает временную зависимость происшествий от поступков. Все бедствия, случившиеся с Иовом, это происшествия, которые не обусловлены никакими предыдущими поступками («грехами») праведника, но в которых заложена возможность дальнейшего поступка: «я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Точно так же падение Силоамской башни — это происшествие, не обусловленное поступками погибших под нею людей, но способное побудить людей, слушающих Христа, к дальнейшему поступку, к раскаянию и изменению своей жизни [6].
Следует уточнить, что причинная связь греха и наказания не отменяется вовсе Иисусом, но как бы дополняется новым вИдением цели. Иисус, исцелив расслабленного и встретив его потом в храме, говорит: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Иоанн, 5:14). Здесь причинность вставлена в контекст целеполагания: Иисус не объясняет, почему заболел расслабленный, но указанием на грех призывает его избежать худшей участи. В другом эпизоде из того же евангелия — со слепорожденным — Иисус так толкует смысл его болезни. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Иоанн, 9:1–3). В этой сцене ученики Христа, как раньше друзья Иова, пытаются встать на точку зрения рационального объяснения болезни как следствия греха. Друзья и ученики как бы демонстрируют тот уровень здравомыслящей праведности, который необходим как ступень восхождения, но превосходится мудрым сомнением Иова и сверхчеловеческим знанием Иисуса. Если Иов, отрицая свою вину, обращает к Богу вопрос: «за что?», то евангелие дает ответ устами Сына: не «за что», а «зачем».
Таким образом, порядок следования поступка и происшествия, субъективного волеизъявления и объективного стечения обстоятельств, переставляется в иудео-христианской концепции судьбы. Теперь не поступок не столько влечет за собой происшествие, сколько происшествие создает возможность поступка. Цельность свершения здесь сохраняется, но раскрывается уже в обратной динамике: от происшествия — к поступку, а значит, последнее слово в диалоге с судьбой произносит сам человек.
4. ФИЛОСОФСКАЯ АПОРИЯ СУДЬБЫ
Иудео-христианское понимание судьбы было далее философски осмыслено в неокантианстве. Не как предопределенность, а как самоопределение жизни, ее ценностную направленность понимал судьбу немецкий философ Георг Зиммель. Следуя Канту, он противопоставляет свободу человеческого духа той причинности, которая госпоствует в природе. «Человеческая жизнь всегда двойственна, в ней противостоят друг другу причинность, простая природность происходящего — и его значение, которое пронизано и одушевлено для человека смыслом, ценностью, целью» [7]. Для Зиммеля судьба — это форма целостного смыслополагания, которому человек подчиняет все случайности своего существования, вписывая их в более высокий порядок — «позитивную или негативную телеологию, единство смысла индивидуальной жизни». «Когда мы говорим о чем-нибудь как о судьбе, то снимается та случайность, которая стоит между событием и смыслом нашей жизни. Называя это нечто судьбой, мы придаем ему высшее достоинство… Мы называем судьбой эти соприкосновения с тем, что втягивается в замкнутую сферу нашей целостной личности» [8].
При таком радикальном перемещении судьбы в план индивидуального целеполагания возникает, однако, вопрос: а стоит ли вообще говорить о судьбе, если она больше не выступает в роли предопределения, если из нее изъят механизм сверхъестественной причинности? Действительно, понятие судьбы отступает в тень в иудео-христианской традиции по сравнению с античной или индуистской, где оно выходило на первый план [9]. На смену судьбе приходит понятие промысла, или провидения, — личной божественной воли, которая руководит человеком и остается ему неподвластной, а часто и неведомой. В отличие от судьбы, действующей бесстрастно, как закон, божественный промысел в представлении иудеев и христиан исполнен блага и милосердия и ведет человека к спасению, часто непостижимыми для него и даже смертельными путями (вспомним гефсиманскую молитву Христа: «да минует меня чаша сия»). И все-таки «провидение» не столько отменяет судьбу, сколько «теизирует» ее, укореняет в личной воле Творца, обращенной к человеку, но безмерно его превосходящей. В иных христианских учениях промысeл даже сближается с судьбой, например в кальвиновской доктрине предопределения, согласно которой Бог еще до сотворения мира предопределил одних людей к спасению, других к осуждению, однако никто из них заранее не знает об этом.
Полное упразднение судьбы — это скорее императив радикально-гуманистического, точнее воинственно-атеистического миросозерцания, которое зародилось на иудео-христианской основе, но не ограничилось передачей судьбы в личное ведение Творца, а объявило человека «полным хозяином своей судьбы». Тем самым понятие судьбы лишилось какой бы то ни было автономии, да и простого словарного смысла. «В советском лексиконе слово «судьба» не должно иметь места», — провозглашал Максим Горький [10].
Очевидно, однако, что человек — не всесильное существо, и многое из того, что составляет его жизнь, выступает именно как заданное, предначертанное, неотвратимое. Это не только сам факт моего рождения, круг обстоятельств, над которыми я не властен; это и мое собственное тело, голос, характер, способности, вкусы, пристрастия. Чем глубже мы всматриваемся в себя, доискиваясь «самого своего», тем больше находим это свое «уже рожденным». Самих себя мы тоже получили в дар неведомо от кого, и если можно говорить о субъективности человека, то в своей основе это субъективность дательного, а не именительного падежа: не я, а мне. Любая «данность» потому так и называется, что дана мне, как дар. В этом смысле судьбой человека является он сам, каким он «сужден» самому себе. Судьбу можно определить как дальнейшее развертывание той сущности человека, над которой он сам не властен: сначала она является ему в форме «врожденных черт», а затем — «беспричинных происшествий». Знаменитое определение Бюффона: «Стиль — это человек» — можно было бы отнести и к судьбе, с той поправкой, что судьба — это человек, каким он сам себя не знает.
Судьба — как собственный скелет: его никогда не видишь, но из него никуда не выпрыгнешь. Когда жизнь кончена и плоть разлагается, тогда обнажается то, чем человек был и чего он не знал о себе. Так и судьба выявляется из всего состава человеческих дел, когда они приходят к концу, — как то, что «делалось» с человеком независимо от его сознания и воли. Разница между «самостью» и «судьбой» в этом смысле — всего лишь разница между действительным и страдательным залогом, или между личным и безличным глаголом. Можно ведь сказать: «я думаю» — и «мне думается»; «я играю» — и «мне играется»; «я живу» — и «мне живется». «Судьба» — это способ обозначить все мои действия и состояния в страдательном залоге.
Мысль о том, что характер человека — это и есть его судьба, одновременно и древняя, и современная. Впервые мы находим ее у Гераклита: «Этос человека — его даймон». В переложении Менандра (комедия «Третейский суд») это звучит так: «Характер — наш бог, / И он виновник того, что один преуспевает, / А другой нет» [11]. И эта же мысль составляет один из главных мотивов в повествованиях Х.Л. Борхеса. В рассказе «Письмена Бога» герой, оказавшись в темнице, ищет среди бедных предметов своего окружения знака Бога, начертания судьбы, и вдруг постигает: «Быть может, магическая формула начертана на моем собственном лице, и я сам являюсь целью моих поисков» [12].
Таким образом, в понятии судьбы вырисовывается апория, внутреннее противоречие. С одной стороны, судьба — нечто предустановленное, извне навязанное человеку: обреченность, неизбежность, которым он противопоставляет свое желание и волю. С другой стороны, у каждого человека своя судьба, и желать иной судьбы — желать иного себя, а это неосуществимо. Судьба над нами — и в нас самих.
Эта апория постоянно дает себя знать в истории «фатумологии», древней теории судьбы. Так, Хризипп, глава школы стоиков, искал такого объяснения действий судьбы, которое не исключало бы свободы, а значит, ответственности самого человека. Он приводил пример с цилиндром и волчком. Ни один из предметов не может двигаться, если внешняя сила — толчок, удар — не задаст им движения; но линия их движения зависит от их собственной формы — цилиндр будет ровно катиться, волчок будет вращаться по кривой. Точно так же и удары судьбы направляют жизнь человека, но по линии, зависящей от его собственного характера. «…Как цилиндр, он толкается снаружи, но в остальном движется собственной силой и природой» [13].
Вопрос в том, что называть судьбой: силу внешнего воздействия? природу и характер того человека, на которого оказывается воздействие? или результирующую этих двух составляющих?
5. ФАТАЛИЗМ И ВОЛЮНТАРИЗМ
К понятию необходимости ведет понятие свободной воли, а не наоборот, как полагали Гегель и Маркс, для которых свобода — это осознанная необходимость, т. е. добровольная отдача необходимости. Необходимость не может быть познана, пока у нас нет опыта свободы, попытки обойти данное нам, поставленное у нас на пути. Сначала должно быть «обхождение», чтобы могло возникнуть его отрицание. А свобода — это и есть способность обходить препятствие, выходить за предел данного, совершать побег в иное. В самих словах, образованных отрицанием: «неизбежность», «безвыходность», «неотвратимость» заключен порыв к свободе: из-бегание, об-хождение, от-ворачивание. Слово «не-обход-имый» этимологически содержит в себе двойное отрицание, одно эксплицитно («не»), другое имплицитно: действие «об-ходить» предполагает свободу преодолевать какие-то препятствия или обходиться без чего-то насущного. Необходимость тогда и возникает, когда пытаешься что-то обойти, — логически и этимологически следует за «обходимостью», вбирает опыт свободы и неотторжима от нее. Слово «не-об-ход-имость» содержит в себе краткую и трагическую историю свободы, оно говорит о свободе даже больше, чем само слово «свобода». Необходимость — это свобода, испытанная до конца и потому познавшая свою конечность [14].
Возьмем какой-то простейший, самый осязаемый пример превращения данности в судьбу через промежуточную область свободы. Вот эта моя кожа — данность или судьба? Данность, пока я ношу ее на себе, не замечая ее, и она приходится мне впору, сидит на мне как литая. Но вот она становится мне тесна, я пытаюсь выпрыгнуть из нее и не могу, тогда-то я и понимаю, что это судьба, что я не могу сбросить свою кожу, страну, эпоху… Они мне суждены в той мере, в какой я хочу, но не могу обойти эту данность, преодолеть наличное, ибо ничего иного мне не дано. Чтобы чего-то не мочь, нужно сильно чего-то хотеть, нужна мощная воля. Нужно сильно вылезать из кожи, чтобы не вылезти; сильно прыгнуть, чтобы не перепрыгнуть.
Для многих людей жизнь выступает как простая данность, «что есть, то и есть», и никогда не приобретает тяжкого и опасного достоинства судьбы. А для некоторых людей, таких как Печорин, судьбой становится какой-нибудь пустяк, опрокинутый стакан воды, потому что они вылезают из кожи повседневности, постоянно испытывают границы своей свободы, ходят по той кромке, по одну сторону которой — мое безграничное «я», а по другую — моя непостижимая судьба. Поэтому Печорин не боится ходить в одиночку на кабана — и вздрагивает и бледнеет, когда от ветра стукнет ставнем. Он абсолютный фаталист в той же степени, что и абсолютный волюнтарист. Судьба не управляется поступками человека, но потому и человек в своих поступках свободен от судьбы. Ему ничего не страшно, потому что все таит в себе угрозу, всюду виден знак судьбы. Как отмечает «Словарь современной мысли», фатализм часто смешивается с детерминизмом, но по сути они противоположны друг другу. Фатализм «утверждает не просто то, что все, что случится, случится в соответствии со всеобъемлющей системой законов природы, но то, что все, что случится, случится независимо от чьих бы то ни было действий (will happen whatever anybody does)…» [15].
В отличие от детерминизма, фатализм взаимно освобождает человеческую волю и законы природы (и общества) от необходимого соответствия друг другу. Фаталист выходит на край своей воли, где можно все себе позволить, но и судьба может себе все позволить. Это такое напряженное со-стояние с судьбой: глаза в глаза, лоб в лоб, как у борцов на ринге, когда отслеживаешь каждое движение зрачка или мускула, оно может оказаться роковым. Печорин вышел в зону абсолютного риска, где кабана или казака-убийцу можно в одиночку одолеть, а от дуновения ветра — умереть. Судьба — это напряженность свободы, которая вдруг узнает свой предел и говорит: здесь уже не я, здесь что-то другое. Свобода — это шестой орган чувства, орган ощущения судьбы.
В тексте человеческой жизни слова «свобода» и «судьба» всегда появляются вместе или подразумевают друг друга. Человек потому и неволен над теми или иными обстоятельствами, что имеет свободу воли. Следует различать детерминизм, теорию обусловленности и несвободы всех человеческих поступков, — и фатализм, по которому любые поступки приводят к заранее предопределенным результатам. Фатализм не просто верит в судьбу, но постоянно испытывает ее своеволием.
Человек воли и человек судьбы, волюнтарист и фаталист — это, как правило, одно лицо. Таков, например, сверхчеловек Ницше, у которого воля к власти совпадает с amor fati, «любовью судьбы».
Герои лермонтовского «Фаталиста» — Вулич и сам Печорин — испытывают судьбу, играют с нею и именно поэтому могут быть названы фаталистами: они антидетерминисты, люди свободной воли. Они не пребывают в бытии, не сковывают себя его условиями и условностями, но ищут событий, т.е. перелома в ходе бытия. Вулич стреляет в себя — и пистолет дает осечку. Печорин в одиночку бросается на убийцу — и остается в живых. Именно в соотнесении с дерзкими поступками Вулича и Печорина приобретают судьбоносный смысл последущие происшествия, такие как убийство Вулича пьяным казаком и печоринское везение в схватке с ним. «…Подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу», — говорит Печорин. Если бы Вулич не стрелял в себя, не испытывал свою судьбу, то и его убийство пьяным казаком было бы случайностью, а не знаком судьбы. Судьбу испытывают, с ней сталкиваются, против нее восстают — судьбы нет там, где нет соответствующей интенции, человеческой «судьбонаправленности», в ответ на которую те или иные явления становятся «судьбоносными».
Но ведь и Вулич стреляет в себя только потому, что хочет экспериментально проверить всесилие судьбы. Парадокс в том, что поступок Вулича вызван его стремлением испытать судьбу — и сам вводит в действие механизм судьбы, т.е. перед нами — замкнутый круг, в котором своеволие и судьба взаимно задают смысл друг другу. Из этого круга нет выхода. «Будь что будет», говорит фаталист, но то, что будет, не есть просто будущее, а есть со-бытийность, встреча человека с бытием «на равных»: своеволие — в ответ на непредсказуемость.
Воление, несогласное с необходимостью, становится поступком. Необходимость, несогласная с волением, — происшествием. Так из расхождения свободной воли и хода вещей образуются два разряда событий, поступки и происшествия, но именно расхождение позволяет их сопрячь в единстве события-свершения и усмотреть свободу и судьбу там, где раньше царствовали произвол и случай. Произвол — это свобода, не подотчетная судьбе, а случай — судьба, безотзывная к свободе.
6. СУДЬБА И СВОБОДА. КОНФУЦИЙ И СТОИКИ
Итак, необходимость — это не первичное понятие, через которое определяется свобода, а третичное понятие, которое само определяется через свободу, как свобода определяется через отрицание данного, исходного, врожденного, наличного. Необходимое — это не данное изначально, а итог глубинного и трагического переживания свободы: необходимость возникает на пределе свободы, как ее иное. Свободный человек свободен идти и дальше своей свободы, заходить за ее край, где он встречает свою судьбу.
Далее мы подробнее охарактеризуем концептуальную связь свободы и судьбы на примерах древней философии и современной литературы. Даже если судьба признается безусловным хозяином всей человеческой жизни, всеобъемлющим и неотменимым законом, все равно понятие человеческой свободы привходит в определение судьбы, например, как «страх перед судьбой» или «добровольное послушание».
Конфуций говорил: «Кто не признает судьбы, тот не может считаться благородным мужем… Благородный муж испытывает три страха: перед небесной судьбой, перед великими людьми и перед словами мудреца. Мелкие люди не знают небесной судьбы и не боятся ее, неучтиво обращаются с великими людьми и презрительно относятся к словам мудреца» [16].
Почему мелкий человек не знает и не боится судьбы? Да потому, что для него есть только непосредственная данность житейских дел, за которыми не стоит никто и ничто, превышающее его волю. Благо-родный — тот, кто чтит благо своего рождения и родителей, т.е. основания своей судьбы. Без ощущения себя частью своего рода — а таково свойство благородного — не может быть и признания своей судьбы, которая сделала меня частью этого рода. Благородство и судьбоносность — это почти синонимы, почему о судьбе и говорят: «на роду написано». Несвободный человек не знает своей несвободы. Свободный человек знает и то, от чего он не свободен, признает над собой власть рода и действие судьбы.
Понятие судьбы занимает центральное место в мировоззрении стоиков, но и они не отвергали полностью человеческую свободу. Особенно интересно проследить, как глава стоической школы Хризипп пытается смягчить крайние выводы фатализма и провести различие между судьбой и необходимостью, которая безусловно владычествует над человеком. Вот что говорит Цицерон в своем трактате «О судьбе» (De Fato): «Было два мнения среди старых философов. Одни считали, что все вытекает из судьбы, таким образом, что судьба налагает силу необходимости (fatum vim necessitatis affereret). Таково мнение Демокрита, Гераклита, Эмпедокла и Аристотеля. Согласно другому мнению, существуют вольные движения душ, в которых судьба вообще не участвует (sine ullo fato esse animorum motus voluntarii). Хризипп, как уважаемый арбитр, кажется, хотел установить баланс… Поскольку он не одобрял необходимость и вместе с тем не хотел, чтобы что-либо происходило без предшествующих причин, он различал причины таким образом, чтобы можно было одновременно избежать необходимого и сохранить судьбу (necessitatem effugiat et retineat fatum)» [17]. Иными словами, Хризипп пытается обнаружить действие судьбы как раз между внешней причинностью и вольными движениями души, как некий способ их взаимодействия или взаимоуравновешивания.
К этому Цицерон, излагающий взгляды Хризиппа, добавляет собственное понимание вопроса, подчеркивая фактор субъективных желаний и волений. Характер человека не есть физическое тело, объективно данное, но есть совокупность желаний, волений, устремлений. Они и составляют ту внутреннюю причину, которая не меньше, чем внешние причины, составляют действие судьбы. «…В случае волевых движений души не следует искать внешней причины; ибо волевое движение имеет эту природу в самом себе, она в нашей власти и послушна нам. И все это не лишено причинности, ибо природа такой вещи сама есть ее причина» [18]. То есть воление и причинность совпадают в самой волящей душе, которая имеет причиной саму себя.
Другой великий стоик Сенека, казалось бы, более подчеркивает момент необходимости: «Мы не можем изменить мировых отношений. Мы можем лишь одно: обрести высокое мужество, достойное добродетельного человека, и с его помощью стойко переносить все, что приносит нам судьба, и отдаться воле законов природы. Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет» [19]. Сенека полагает, что мы не можем изменить свою судьбу, и советует добровольно подчиняться ей, но именно эта добровольность («кто хочет») и определяет способ действий судьбы, мягкий или жесткий. У человека есть выбор, покоряться или противиться судьбе; если бы он не мог ей противиться, то не было бы и достоинства в его послушании. Судьбы ведут или тащат, и характер их действий зависит от доброй воли самого человека.
И страх судьбы, о котором говорит Конфуций, и послушание судьбе, которому учит Сенека, исходят из человеческой свободы. Высшая свобода перешагивает границы личности, видит себя несвободной от чего-то высшего, чем личность. Страх судьбы — это еще одно переживание своей свободы, так сказать, «от противного». Я боюсь судьбы, потому что не подчиняюсь воле обстоятельств, но точно так же судьба не подчиняется моей воле. Бояться судьбы — признавать за ней такую же неподвластность моим желаниям и намерениям, как я неподвластен простой силе обстоятельств. Обходя одно за другим все обстоятельства как препятствия, я не могу обойти судьбу как последнюю не-обходимость. Но именно признавая ее власть над собой, я и совершаю последний доступный мне акт свободы.
7. СУДЬБА И СВОБОДА. ТЮТЧЕВ И НАБОКОВ
Теперь перейдем от древности к классике Нового времени. Рассмотрим два литературных примера, которые позволяют понять соотнесенность судьбы со свободой.
Классический образ судьбы явлен в тютчевском стихотворении «Из края в край, из града в град…» (вариация на тему Г. Гейне). Казалось бы, здесь дан апофеоз античного понимания судьбы как необходимости, господствующей над человеком:
Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!
Судьба — абсолютный мировой закон, который действует как природная стихия, не считаясь с людскими желаниями. Но если вслушаться в вой этого вихря-судьбы, мы услышим разговор одного из подхваченных им «малых сих» со своей душой:
Знакомый звук нам ветр принес:
Любви последнее прости…
За нами много, много слез,
Туман, безвестность впереди!..«О, оглянися, о, постой,
Куда бежать, зачем бежать?..
Любовь осталась за тобой,
Где ж в мире лучшего сыскать?Любовь осталась за тобой,
В слезах, с отчаяньем в груди…
О, сжалься над своей тоской,
Свое блаженство пощади!Блаженство стольких, стольких дней
Себе на память приведи…
Все милое душе твоей
Ты покидаешь на пути!…»
Именно этот разговор с самим собой, попытка удержать себя на пороге и превращает дальнейший путь в судьбу. Это не просто вихрь, увлекающий человека, это его бег от самого себя. «Куда бежать, зачем бежать?» — в ответ на этот вопрос и рождается сила вихря, отрывающая лирического героя от прошлого. Протяжный гул вихря — «вперед, вперед!» — звучит в ответ на его клики, обращенные назад, к теням минувшего:
Не время выкликать теней:
И так уж этот мрачен час.
Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.
Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он… Вперед, вперед!
Концовка стихотворения как будто вторит его началу, но теперь, пройдя через голос раздвоенной человеческой сущности, бегущей от себя (в неизвестное будущее судьбы) и ищущей возврата (к милому, до слез родному прошлому), мы понимаем скрытую иронию последней строки. Да, вихрь-судьба не спрашивает нас. Но он отвечает на наш вопрос. «Вперед, вперед!» — это ответ судьбы на зовущие назад голоса любви, верности и памяти. Собственно, сам «ветр» и приносит издалека эти звуки, которые побуждают нас противиться ветру. Судьба проходит по той тонкой рвущейся линии, где человек разделяется сам с собой: «За нами много, много слез, / Туман, безвестность впереди!..» Вихрь срывает нас с места, потому что мы сами рвемся вспять и поперек себе, расходимся с ходом своей жизни. Человек потому и имеет судьбу, что противится ей, не вмещается в предложенные ему обстоятельства.
Другой пример — из Владимира Набокова. В конце романа «Дар» все события, ведшие к сближению Федора и Зины, приобретают в сознании Федора очертания судьбы, что означает и его готовность превратить сырую массу прожитого в роман. «…Он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного “романа”…» «Вот что я хотел бы сделать, — сказал он. — Нечто похожее на работу судьбы в н а ш е м отношении». Итак, судьба — это своего рода художественная целостность и сюжетная завершенность прожитого, все разрозненные нити сплетаются в один узел…
Но если бы понятие судьбы означало полную предрешенность и неизбежность всех событий, ведущих героев навстречу друг другу, то отчего у этой линии сближения такие зигзаги и отклонения? Почему судьба вообще может допускать промахи, если она представляет собой абсолютный закон, действующий из себя и для себя? Между тем в размышлениях Федора о судьбе главное место уделяется именно ее ошибкам, неточностям, недоделкам, неудачам:
«Первая попытка свести нас: аляповатая, громоздкая!»
«Но тут-то судьба и дала маху: посредник был взят неудачный…»
«…Судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились…»
«Она сделала свою вторую попытку, уже более дешевую, но обещавшую успех… Но и это не вышло… опять сорвалось»
«Тогда-то, наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка…»
«…Второпях — или поскупившись — судьба не потратилась на твое присутствие во время моего первого посещения…»
«…И тогда, из крайних средств, как последний отчаянный маневр, судьба, не могшая немедленно мне показать тебя, показала мне твое бальное голубоватое платье на стуле…»
«…Маневр удался, представляю себе, как судьба вздохнула».
Вопрос в том: почему это нагромождение событий нужно именовать судьбой, если им явно недостает последовательности, если судьба все время сбивается с толку, чего-то недоучитывает, действует методом проб и ошибок, а если в чем-то и преуспевает, то тоже почти наугад? Может ли судьба «дать маху»? Уместен ли такой антропоморфизм? Если действия судьбы зависят от везения и удачи, то нет ли над судьбой Федора и Зины еще какой-то другой судьбы, а над ней — еще одной «судьбы судьбы судьбы», и так далее до бесконечности?
Можно, конечно, рассуждать и так, что порядок судеб бесконечен, над одной судьбой возвышается другая и восходит к последней непреложной Судьбе всех судеб. Но на том участке взаимоотношений человека и судьбы, который нам дано наблюдать вместе с Набоковым, видно, что события, происходящие с героями, столь же судьбоносны, сколь и сама судьба человечна, не застрахована от ошибок. В той мере, в какой Федор предоставляет судьбе право вторгаться в свою жизнь, судьба предоставляет Федору право отклоняться от своих предначертаний. Между ними — отношение двух щедростей, двух жестов уступки.
Судьбе свойственна не только ирония, но и самоирония. Судьба иронизирует над героем, который, предполагая сделать одно, делает совсем другое. Но судьба и сама не знает, что выйдет из ее заготовок, и многие поступки подопечных оказываются для нее сюрпризом. Это ничуть не исключает дальнейших новых мотивировок и перекодировок, по которым видимая промашка судьбы оборачивается ее тайным умыслом. Так, Федор и Зина только потому не съехали раньше с щеголевской квартиры и не поселились вдвоем, что «эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставившей первую попавшуюся под руку загородку, чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды».
Далее, не только промахи судьбы могут быть переписаны в ее пользу, но и сетования на эти промахи могут повлечь ее ответные действия. «Смотри, — сказала Зина, — на эту критику она может теперь обидеться — и отомстить». Иными словами, в отношениях человека и судьбы каждый новый жест может поменять значение всех предыдущих. Герои сетуют на промахи судьбы — и вместе с тем предоставляют ей возможность пересмотреть исход игры в ее пользу, как и судьба предоставляет им возможность иных ходов, отклоняющихся от первоначального плана игры. Эта нестыковка — воистину игра — между человеком и его судьбой не есть просто недоделка набоковского романа: без нее не было бы свободной воли, а значит, и самой судьбы.
Из приведенных примеров следует, что судьба, как она представлена у Тютчева и Набокова, есть противопонятие свободы. Именно свобода человека превращает все происходящее с ним в судьбу, в поле какого-то неясного смысла. Но судьба никогда не являет целиком своего смысла. Судьба, которая не задает вопроса о смысле происходящего, — это всего лишь случай. Судьба, которая полностью отвечает на этот вопрос, — причинность. Судьба помещается именно между необъяснимым случаем и всеобъясняющей причиной, как поле тревожного, вопрошающего смысла. Человек не знает себя и вопрошает о самом себе — именно поэтому он и имеет судьбу, некое задание или назначение, не совпадающее с его данностью и невместимое в его сознание.
8. РЕЧЬ И ОБРЕЧЕННОСТЬ
У растения и животного есть природа и среда, есть субстанция, форма, идентичность, внутренняя и внешняя данность, но позволительно ли говорить о судьбе растения или животного? Чтобы иметь судьбу, им не хватает главного — сопротивления судьбе, точнее, сопротивления тем данностям, которое превращает их в судьбу. Смысл того или иного понятия часто задается именно способами его перечеркивания. Пытаясь определить понятие судьбы, мы вступаем в смысловое поле другого понятия — «сам», «самость», «самоопределение». Где нет поступка, «субъектно» разрывающего цепь обстоятельств, там нет и происшествия, «объектно» взламывающего ход индивидуальной жизни.
Вначале мы говорили о свершении как о сопряжении поступка и происшествия. Но исходным условием такой судьбоносной взаимосвязи должно быть принципиальное различие субъектного и объектного, поступка-вызова и происшествия-отзыва. Со-бытийность бытия предполагает эту раз-двоенность человеческого, поскольку без «раз-» не бывает и «со-». Судьба возможна лишь потому, что есть «я», которое бросает вызов всем данностям — и этим вызовом превращает их в судьбу. Судьба — это раздвоенная суть человека как судящего и судимого. Корень понятия судьба — «суд». Иов подлежит Божьему суду — и сам вызывает Бога на суд. «Вот, я завел судебное дело; знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? …Зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне» (Иов, 13:18, 19, 22). Судьба — имя той силы, которая судит человека, потому что он сам судья мира. Человек-судья и бытие-судьба возникают вместе и наперекор друг другу, как достойные соперники. Встречные иски человека и бытия и образуют судьбу.
Традиционно считалось, что судьба предзадана человеку и ограничивает его свободу, но правильнее было бы сказать, что свобода и судьба предпосланы друг другу. Судьбы нет там, где есть совпадение вещи с порядком вещей, где растение растет, а животное живет. Человек — судьбообразующее существо именно потому, что он вырывается из порядка вещей, изрекает свое слово — и поэтому слышит предреченное ему. «Рок» — недаром того же корня, что и «речь». Человек есть существо рекущее — и потому рекомое, подлежащее року, т.е. слову и приговору свыше. Субъектность в нем неотделима от объектности даже в чисто грамматическом смысле. Как субъект речи, он обречен быть и ее объектом, не в том поверхностном смысле, что говорят о нем, а в том, что говорят «им»: он сам «изречен», «сказан», и этот Логос укоренен в его бытии вместе с возможностью его собственного Голоса. Такова этимология и латинского «fatum» — это причастие среднего рода прошедшего времени от «fari» — сказать, т.е. буквально «нечто сказанное, изреченное» (богами). Именно эту изреченность самого себя человек нарекает роком. Эта «чело-весть», посланная неизвестно кем и неизвестно кому, лишь отчасти прoчитывается самим человеком, а то, что не удается прочитать и понять, и составляет «тайнопись судьбы».
Философская посылка теории судьбы состоит в том, что судьба, вопреки традиционному пониманию, вовсе не есть данность или предзаданность человеческого бытия. Представление о том, что человек должен осилить свою судьбу, встать выше ее, взять в свои руки и т.д., находится еще внутри античной традиции. К ней же принадлежит и известное бахтинское изречение: «Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» [20], где судьба понимается именно как предзаданность и обреченность, чему противостоит человеческая воля к самоопределению. Судьба — цепь, которую человек должен разорвать; одежда, из которой он должен вырасти; среда, из которой он должен вырваться; закон, который ему предстоит опрокинуть. Судьба — то, что происходит между мною и мною, когда я не узнаю себя или не хочу себя знать, противлюсь сам себе: тогда мой характер, склонности, влечения, с которыми я не могу совладать, приобретают форму судьбы.
Но судьба — это не внешняя человеку сила, а раздвоенность его собственной сущности. Судьба есть следствие человеческой способности судить — а значит, и быть судимым; изрекать — и быть изреченным. Способность иметь судьбу, бросать вызов и получать отзыв, упруго взаимодействовать с Иным — это и есть самое человечное в человеке. В этом смысле более прав Георг Зиммель, для которого «быть ниже или выше судьбы для человека всегда окрашивается тем, что подлинно человеческим, его подлинной определенностью является судьба» [21]. Становясь ниже судьбы, человек, по Зиммелю, превращается в животное, в факт существования, лишенный свободной воли и способности к поступку. Становясь выше судьбы, человек становится Богом, для которого нет вокруг ничего иного, способного стать происшествием, вторгнуться извне в бытие всеобъемлющего Субъекта. Но, поскольку человек остается человеком, он имеет судьбу: способен совершать поступки и попадать в происшествия, а в наиболее глубоких актах самосознания — постигать связь тех и других.
О судьбе можно говорить лишь потому, что она и побеждает человека, и не может его победить. Полная победа судьбы, ее превращение в данность упразднила бы как судьбу, так и самого человека, оставив на их месте человекообразный стебель в почве или двуногого зверя в норе. Порою человек испытывает судьбу поступком, порою судьба испытывает человека происшествием. Но судьба не есть успокоенная в себе неизбежность, равная себе данность — она поднимается над всем сущим, она либо испытует, либо испытуется, как обращенная к человеку вопросительность и ответность бытия.
9. САМОРЕФЕРЕНЦИЯ И РЕВЕРСИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СУДЬБЫ
Одно из главных понятий современных междисциплинарных исследований, на стыке математики и информатики, когнитивистики и лингвистики — «самореференция». Оно играет ключевую роль в определении тех особенностей человеческого (само)сознания, которые могут — или не могут — быть воспроизведены в мыслящих машинах. Будущее искусственного интеллекта зависит от того, окажется ли он способен к самореференции, так сказать, к диалогу и обратной связи с самим собой. Без этого нет и той «самостности», которая выделяет мыслящие существа из мира природы.
Самореференция в упрощенном виде — это отсылка говорящего к самому себе: высказывание, субъект которого выступает и в качестве объекта. Именно самореференция лежит в основе большинства логических парадоксов типа «лжеца». «Критянин говорит, что все критяне — лжецы. Правду ли он говорит?» Когда некто говорит, что он лжет, это высказывание одновременно выступает и как правда, и как ложь. Именно наличие таких парадоксов разрушило логическую систему Фреге; на них построили свою теорию логических типов Рассел и Уайтхед; они отозвались и в «теоремах неполноты» Геделя, которые показывают, что в достаточно богатых формальных системах имеются такие истинные высказывания, которые недоказуемы и неопровержимы в рамках самих этих систем. Отсюда следует принципиальная невозможность полной формализации научного знания, а также невозможность полного познания субъектом самого себя как объекта. Между мною как субъектом и мною как объектом лежит непреодолимая логическая пропасть: парадокс самореференции.
Вот что пишет по этому поводу американский философ и математик Даглас Хофштадтер: «Как ограничительные Теории метаматематики, так и теория вычислений говорят, что, как только возможность представлять собственную структуру достигает некоей критической точки, то пиши пропало — это гарантия того, что вы никогда не сможете представить себя полностью. Теорема Гёделя о неполноте, Теорема Черча о неразрешимости, Теорема остановки Тюринга, Теорема Тарского об истине — все они чем-то напоминают старинные сказки, предупреждающие читателя о том, что “поиск самопознания — это путешествие, которое… обречено быть неполным, не может быть изображено ни на каких картах, никогда не остановится и не сможет быть описано”» [22].
Хофстадтер недаром ссылается здесь на волшебную сказку, которая имеет дело не столько с самопознанием героя, сколько с превратностями его судьбы. Дело в том, что понятие судьбы, если поместить его на карту современной мысли, также связано с самореференцией и теоремой о неполноте. Но точнее было бы здесь говорить не о самореференции и даже не о саморефлексии, а о САМОРЕВЕРСИИ. Самореференция недостаточна для построения мыслящих машин или, точнее, систем искусственной жизни и мысли — нужно дополнительное понятие самореверсии.
Самореференция и саморефлексия — это когда субъект речи или сознания становится его объектом. Самореверсия — это когда субъект воления и действия постигает себя как объект иного воления и действия, у которого нет определенного наличного субъекта. Этот субъект не может быть сведен ни к окружающим людям, ни к экономическим или социальным факторам, ни к языковым или психическим структурам: не только потому, что они не могут объяснить всего, что субъект воли переживает в качестве объекта, но и потому, что «факторы» и «структуры» не являются субъектами воли, они могут определять, обусловливать, но не «волить».
Разумеется, этa ВОЛИМОСТЬ человека, т.е. ощущение себя во власти какой-то воли, может быть адресована трансцендентному субъекту, личности Бога, как и происходит в теистических религиях. Но субъект такого сверхъестественного воления, если он Бог, или Дух, или Гений, представляется по образу человека, личности и не вполне удовлетворяет нашему чувству инаковости, внечеловечности этой воли, которая действует безлично, как «темнеет» или «смеркается». Понятием «судьба» и обозначается непроясненность, безличность этого волящего субъекта — такая инаковость воли, которая не только имеет меня своим объектом, но и сама выходит за рамки какого-либо представления о субъекте. Судьба — это не структура, которая не имеет воли, и не субъект, который имеет личную, человекоподобную волю, а некая парадоксальная безличная субъектность, источник воления, неведомо откуда и почему обращенного на нас.
Этот источник так же не может быть окончательно познан и прояснен, как, согласно Теореме Неполноты, нельзя познать самого себя и не могут быть доказаны истинные аксиомы определенной теории в рамках и на языке самой этой теории. Судьба — это не описательно-мыслительная, а побудительно-волевая неполнота нашего самоопределения. Отсюда и неразрешимые парадоксы, которые возникают в теории судьбы, ибо судьба — это я сам и одновременно то, что мне суждено и предназначено. Судьба — это оборачиваемость моей воли, предметом которой я сам становлюсь, причем не как конкретной воли, а как именно способности воли, которая рассеяна во множестве происходящих со мной событий и соединяет их в одно волящее целое.
Этой своей волимости человек и дает название Вышней Воли, или Судьбы, и она так же остается за пределом его сознания и воли, как он сам остается за пределом своего самопознания. Судьба — это та неполнота волимости, которую человек находит в себе наряду с неполнотой мыслимости. Он не может мыслить и волить себя до конца. Парадокс судьбинности в том, что она неотделима от самостности, и судьба начинает выступать как вышняя воля только там и тогда, когда человек проявляет свою волю как противодействие обычному ходу и распорядку вещей. Самореверсией мы называем обратимость воления-волимости, как саморефлексией и самореференцией — обратимость мышления-мыслимости и говорения и говоримости, т.е. субъекта и объекта соответствующих действий, который предстает как объект свершаемых им действий.
Есть некое со-стояние между свободой и судьбой, которое можно назвать «суперпозицией». В квантовой физике этот термин, предложенный Эрвином Шредингером, означает позицию частицы-волны до момента ее измерения, т.е. до ее локализации в качестве частицы или волны. Суперпозиция воли — это еще не свобода и еще не судьба, а то, что предшествует их различению. Эта суперпозиция есть не что иное, как волевая выделенность человека из мира объектов, его способность быть субъектом и полагать в качестве объекта самого себя, а значит, проецировать и вовне себя ту субъективность, которую он находит в себе по отношению ко всему, что не есть он. Распадаясь на два «когерентных» состояния, эта суперпозиция человека в отношении мира становится свободой и судьбой.
Особенность судьбинности — ее алгебраичность: это всегда Х, которому можно задавать разные значения, но ни одно из них не исчерпывает его многозначности и не исключает его неизвестности. Судьба столь же неопределима, как и свобода, ибо она и есть инобытие человеческой свободы, инобытие субъективности, которая рождается вместе с человеком и в форме судьбинности сопутствует ему во всем. Если определить эту субъектность как волю иного личностного субъекта: человека или Бога — или как совокупность объективных обстоятельств, — она утратит ту всеобщность, абстрактность, алгебраичность, которая ей присуща как субъективности вообще, объектом которой полагает себя человек.
В религиозных системах мировоззрения судьбинность осмысляется как личное воление Бога, как Его Промысел. В научно-детерминистических системах эта судьбинность осмысляется как причинность, т.е. воздействие на человека совокупности неодушевленных объектов, которые им еще не познаны или вообще непознаваемы.
Но это разделение на Промысел и Причинность вторично по отношению к тому, что в нерасчлененном виде выступает как Судьбинность, для которой нет адекватных форм представления (хотя аллегорически она может изображаться в виде персоны или предмета — например, парки, ткущие нить судьбы). И религиозно-теистические, и научно-детерминистические концепции судьбы фактически устраняют судьбу, поскольку с личностью Бога можно вступать в диалог, а объективные условия бытия подлежат познанию и переустройству. Тем самым человек уходит от этого неловкого, опасного, непредсказуемого предстояния Иному, придавая ему черты Собеседника или Условия и выходя из опасного положения объекта при неизвестном субъекте. Труднее всего — жить и действовать на уровне той неотзывчивой и беспричинной судьбы, неопределимой в рамках личности или закона, которая встречно равновелика объему нашей свободы.
Реверсивная концепция судьбы основана на представлении о двух обратимых состояниях воли, ее активном и пассивном залоге, подобно тому как саморефлексия и самореференция суть субъектно-объектная обратимость речи и мысли. Воля может находиться в суперпозиции, т.е. одновременно в двух «когерентных» состояниях: свободы и судьбы, или в двух залогах: действительном и страдательном. Судьба — это страдательный залог свободы. Свобода — действительный залог судьбы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теперь мы можем кратко обозначить три подхода к теории судьбы.
Эстетический: между поступками и происшествиями есть глубинная связь Свершения, выходящая за предел эмпирической жизни, но раскрываемая искусством.
Религиозный: происшествия не имеют определенных причин (или причины эти непознаваемы), но требуют определенных поступков, призывают к действию. Человек свободно отвечает на вызов судьбы.
Философский: между поступками и происшествиями нет ни прямой, ни обратной причинно-следственной связи, но есть сопричастность одному смысловому полю суда-судьбы, речи-рока. Нельзя сказать ни того, что человек находится во власти судьбы и все в его жизни является судьбоносным, ни того, что человек приобретает господство над судьбой, подчиняет ее себе в акте свободного выбора. Если в эстетическом варианте судьба больше человека, простирается за пределы его жизни, то в иудео-христианской концепции человек больше своей судьбы, наделен свободой веровать, каяться и спасаться. В третьем, философском, варианте судьба соразмерна человеку и есть его собственное свойство быть не-собой для себя, получать себя — и передавать дальше — как весть. Человек не во власти судьбы, и судьба не во власти человека, но человек назначает себе судьбу, чтобы иметь достойного соперника в бытии, чтобы расти через борьбу с тем, что превышает его.
Судьба — это вторая, волящая и провидящая природа, которая встает над человеком, как только он встает над первой, вещественной природой. Судьба — такой же дар человека, точнее, дар человеку, как дар музыки, поэзии, математики, но это высший из даров, поскольку он соразмерен не одной способности, а всему бытию человека. Люди, обделенные другими дарами, могут иметь дар судьбы, дар превращения поступков в происшествия, а происшествий — в поступки (вспомним Печорина). Судьба играет с человеком, потому что он сам — игрок, между ними происходит игра на повышение ставок, включая высшую ставку — жизнь.
К древнему представлению, что человек — говорящее животное, следует добавить, что человек — роковое животное, способное превращать свою жизнь в судьбу, довлеющую его воле. Как только в природе появляется субъект, он не может не полагать себя и в качестве объекта, вот почему субъект речи становится объектом рока. Человек оказывается приговоренным в тот момент, когда сам выносит приговор бытию.
Человек предзадает себе нечто большее и сильнейшее себя, предзадает себе то, что его одолеет. Человечность — это и есть способность иметь судьбу, заходить за предел своей свободы, превращать все данное — в заданное себе и превосходить самого себя на величину своей судьбы.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ [23].
Судьба — то «высшее начало», в ответ которому человек растет, постигая самого себя не как случайную данность, а как задачу. В понятии судьбы человек одновременно и умаляет, и перерастает себя, отторгая от себя свою данность и одновременно превращая ее в свое предназначение, в нечто высшее, чем он сам.
Только человек имеет судьбу, но благодаря ему судьбу приобретает и все мироздание: сам человек становится промыслом бытия, роком животных и растений… Но это уже новая тема.
1 Эккерман И.П. Разговоры с Гете. Запись от 28 февраля 1831 г. М.; Л., 1934. С. 564.
2 Buchanan Mark. Ubiquity: The Science of History… or Why the World Is Simpler Than We Think. Crown Publishing Group, 2001.
3 Блок А. Вступление в поэму «Возмездие».
4 Мальро Андре. Голоса безмолвия // Писатели Франции о литературе: Сборник статей. М.: Прогресс. 1978. С. 294.
5 Шпенглер Освальд. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М.: Мысль, 1993. Т. 1. С. 273.
6 К такому же выводу приходит и Торнтон Уайлдер в романе «Мост короля Людовика Святого» (1927) — одном из самых целенаправленных художественных исследований религиозных механизмов судьбы. Монах Юнипер пытается превратить богословие в точную науку и отыскать причины, по которым погибли пятеро несчастных, оказавшихся на мосту в тот миг, когда он рухнул в пропасть. «…Он стучал во все двери Лимы, задавал тысячи вопросов, заполнял десятки записных книжек, ища подтверждения тому, что жизнь каждого из пяти погибших была завершенным целым». Многолетние разыскания брата Юнипера приводят только к тому, что его книгу сжигают на костре вместе с автором. Объяснить, почему погибли именно эти пятеро, даже зная мельчайшие обстоятельства их жизни, оказывается практически невозможным. Но истинным смыслом трагического происшествия становится урок для тех, кто остается жить. Путь, приведший пятерых к гибели, неясен; но ясен путь спасения для живущих. «Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение» — такой итог расследованиям судьбы подводит в конце романа настоятельница монастыря мать Мария (Уайлдер Торнтон. Мост короля Людовика Святого. День восьмой. М.: Прогресс, 1976. С. 28, 101).
7 Зиммель Георг. Проблема судьбы // Избранное. М.: Юристъ, 1996. Т. 2. С. 188.
8 Там же. С. 188, 189.
9 Нельзя не согласиться с С.С. Аверинцевым: «Вызов культу судьбы был брошен иудейско-христианским теизмом. Библия представляет мировой процесс как открытый диалог творца и творения, в котором нет места судьбе. Талмуд многократно осуждает веру в судьбу. <…> …Ранние христиане верили, что вода крещения смывает полученную при рождении печать созвездий и освобождает из-под власти судьбы. <…> Христианская совесть противостоит языческой судьбе» (статья «Судьба» в кн.: Философская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1970. Т. 5. С. 159).
10 О двусмысленном использовании понятия судьбы в советском лексиконе см.: Эпштейн Михаил. Судьба и судьбы // Бог деталей. Народная душа и частная жизнь в России на исходе империи. М.: Издание Р. Элинина, 1998. С. 62–67.
11 Гераклит, фрагм. 94 (119DK) // Фрагменты ранних греческих философов / Подгот. А.В. Лебедев. М.: Наука, 1989. Ч. 1. С. 243.
12 Борхес Х.Л. Письмена Бога. Соч.: В 3 т. Рига: Полярис, 1994. Т. 1. С. 457. В другом рассказе, «Приближение к Альмутасиму», пересказывается отрывок из поэмы «Беседы птиц» (1175) персидского мистика Аттара. Птицы пускаются на поиски своего царя Симурга, имя которого означает «тридцать птиц». Они пускаются в почти бесконечный путь, преодолевают горы и моря (название предпоследнего «Головокружение», последнего — «Уничтожение»). Многие из странников дезертируют, погибают. Когда же наконец они узрели Симурга, им становится ясно, что они и есть Симург — «тридцать птиц», достигшие конца пути.
13 Цицерон. О судьбе, фр. 42 // Cicero. On Fate / Ed. with an introd., trans. and comment. by R.W. Sharples. Warminster (England): Aris & Phillips Ltd., 1991. Р. 84, 86.
14 Сходная этимология у слов «necessarius», «necessary» в латинском, английском и других европейских языках. Здесь корнем выступает «cedere», что означает «уступать», «отходить», «отступать». «Necessarius» буквально значит «неотступный», «неотпускающий», «несдающийся», «непреклонный», т.е. ограничивающий свободу ухода, отступления.
15 The Norton Dictionary of Modern Thought / Ed. by Alan Bullock and Stephen Trombley. New York; London: W.W. Norton and Company, 1999. Р. 311.
16 Лунь Юй, глава 16, Цзи ши, 8 // Антология мировой философии. М.: Мысль, 1969. Т. 1, ч. 1. С. 191. В другом переводе: «Благородный муж боится трех вещей: он боится веления неба, великих людей и слов совершенномудрых» (Конфуций. Лунь Юй, гл. Цзи-ши, 8, Древнекитайская философия. М.: Мысль, 1972. Т. 1. С. 170).
В другом месте «Лунь Юй» высказана сходная мысль: «Не зная воли [неба], нельзя стать благородным мужем», гл. Яо Юэ (Там же. С. 174). Различные варианты перевода этих высказываний см. в кн.: Конфуций. Беседы и суждения. СПб.: Кристалл, 1999. С. 613, 714.
17 Cicero. On Fate (paragraphs 39, 41) / Ed. with an introd., trans. and comment. by R.W. Sharples. Warminster (England): Aris & Phillips Ltd., 1991. Р. 84, 86.
18 Ibid. Рaragraph 25. Р. 74.
19 Антология мировой философии. М.: Мысль, 1969. Т. 1. С. 506. В другом переводе: «Покорных рок ведет, влечет строптивого» (Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию / Пер. С.А. Ошерова. М.: Наука, 1977. С. 107).
20 Бахтин М.М. Эпос и роман // Литературно-критические статьи. М.: Худож. лит., 1986. С. 424. Из контекста рассуждения Бахтина об образе человека в жанре романа видно, что он понимает под судьбой «данное», «ставшее», историко-биографическую плоть или одежду, облекающую человека в противовес его свободному самоопределению. «Человек до конца невоплотим в существующую социально-историческую плоть. <…> Все существующие одежды тесны (и, следовательно, комичны) на человеке» (Там же).
21 Зиммель Георг. Проблема судьбы // Избранное. Т. 2. С. 192.
22 Хофштадтер Даглас Р. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. С. 655.
23 Рильке Р.М. Созерцание (в пер. Б. Пастернака).
Об Авторе: Михаил Эпштейн
Михаил Наумович Эпштейн - филолог, культуролог, философ, профессор теории культуры и русской словесности университета Эмори (Атланта, США) и Даремского университета (Великобритания). Директор Центра Обновления гуманитарных наук (Даремский университет). Автор 20 книг и более 600 статей и эссе, переведенных на 17 иностранных языков, в том числе "Парадоксы новизны" (М., 1988), "Философия возможного" (СПб, 2001), "Отцовство" (СПб., 2003), "Знак пробела. О будущем гуманитарных наук" (М., 2004), "Постмодерн в русской литературе" (М., 2005), "Слово и молчание. Метафизика русской литературы" (М.,2006), "Философия тела" (СПб, 2006), "Sola amore: Любовь в пяти измерениях" (M, 2011), "Религия после атеизма: новые возможности теологии" (M., 2013). Лауреат премий Андрея Белого (1991), Лондонского Института социальных изобретений (1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин-Веймар, 1999), Liberty (Нью-Йорк, 2000).

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы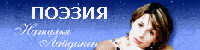 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО


Прочитала Вашу статью с большим интересом. Познавательно и увлекательно для меня – филолога, поэта, прозаика и просто женщины.
Спасибо, Михаил!