ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ ● ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН ● ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА
 ВОСКРЕСНОЕ УТРО
ВОСКРЕСНОЕ УТРО
Болел я. Пришел Гриша, принес с собой изморозь на высокой боярской шапке, уличный румянец, свежий запах не выпавшего еще снега.
Принес мне в постель свои впечатления о прозе Цицерона, но зачитал почему-то Пастернака: «Весна. Я с улицы, где тополь удивлен…»
Посетовал на школьную нагрузку, стерву-завучиху, вонючие поурочные планы, обезумевших от бесконечного учебного года детей… Но был, впрочем, полон спасительного оптимизма, видел поэтические сны, горизонты, доверял солнцу, земле, покою… Провоцировал на прекрасное. Я поддавался, что-то читал, Гриша предвкушал, внимательно слушал, подставляя якобы глуховатое ухо…
Потом ходил по комнате, трогал пальцами вещи, выуживал из книжного хлама мои рисунки, с преувеличенной осторожностью клал на место (знак недобрый), снова ходил по комнате, потирал ручки, недоверчиво заглядывал в зеркало. Поправлял гриву, одергивал пасхальный голубой костюм, требовал стихов, рассказов, эссе, читал свои. Проказничал. Воскресное утро распирало его… Потом мы написали рассказик. И стишок:
Хочу в Одессе, не старея,
Жить между делом и вином
И православного еврея
Воспеть ямбическим стихом!…
Сладко мы шутили с Гиршем в ту осень. Теперь не то.
В ПАРАДНОЙ НА УЛИЦЕ ПАСТЕРА
В парадной на улице Пастера во втором пролете тихо, тепло. Уютно сопит электрическая лампочка под цветным куполом, затканным бессмертной паутиной. Изящный витражик узкого средневекового окна. Терпеливый мрамор, густо исписанный за последние полтора века. Последние чистые уголки, не загаженные еще прыщавой шпаной и пэтэушниками, не заплеванные кровавыми окурками из нечистых ртов. Не подпорченные ядовитой кошачьей мочой и человечьей блевотинкой.
Тут можно отдохнуть, переждать дождь, непогоду, выкурить заветную сигаретку, почитать книжку, поцеловаться… (Я открыл этот уголок лет семнадцать назад. Давненько же тут не был…)
На табличках – старые благородные фамилии: Михельсон, Дворецкий, Канцлер, Кутузов, Рубинштейн. Был даже Хаим Смоленский, адвокат. Старые русские евреи (из интеллигентов) обитали тут…
Где-то здесь жил известный доктор Левинзон. Исключительный педиатр и диагност. Зубной врач Марменштейн (мосты, коронки, протезы). Д-р Зоя Альфонсовна Шейн (морфинизм, заикание, пьянство, половые расстройства, ишиас).
Но это было давно. Теперь тут тихо, паутина и не то. Жильцы жэка №617/14, а не гинекологи, ювелиры и протезисты с частной зубной практикой (на дому).
Зато тут можно высунуться из разбитого слухового окошка, уронить на голову дворника старое ведро, плюнуть в сырую одесскую ночь…
КАК ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ?
Как-то набрели на больную тему. Игорек спросил меня:
— Как ты можешь работать в школе? Как можно так долго скрывать свое безумие? Скрывать то, что ты сумасшедший?..
— Да, это тяжело. Не представляешь, как это трудно. Пот просто градом. Ученики, мне кажется, только к концу года догадываются. Да и то не все. Сразу, сначала — мне удается их огорошить.
— А администрация?
— Она чует это, по-моему, с первого взгляда. Но если у меня на руках приказ… Впрочем, я думаю о ней слишком хорошо. Как правило, она очень слабо ориентируется в тонкостях… Но чует, что я чужой. Другой.
— Н-да… А коллеги?
— Вот с коллегами дружен. Тут отношения, если они есть, более человеческие.
— Ну, естественно. Потому что они тоже чокнутые. Каждый по-своему, разумеется. Кроме отпетых гадов. Те нормальны… Но как все-таки тебе удавалось так долго продержаться?
— Разве это долго?.. Вообще не знаю… Иногда урок совершенно невозможно довести до конца. А ведь надо. И я старался. По-моему, они видели, как я мучаюсь. Это тяжело скрыть. Часто к концу урока я вообще не соображал, что происходит. Но какие-то стереотипы срабатывали. И все как-то шло… А в мозгу ужас какой-то. Мне кажется, я работал с ними только маленьким кусочком мозга. Все остальное не использовалось. Остальное гуляло где-то на воле, в деревьях. В иных местах. Если бы я включился полностью… я очень часто хотел… было бы лучше…
— Для кого?
— Для детей, конечно. И для меня. Нет? По-моему, да. Теперь я думаю, что да… По крайней мере, я бы жил. И они бы тоже начали жить. Хотя они всегда живут больше, чем учителя. И главное — дольше. Ну, это другое… Короче говоря, меня изматывает этот постоянный контроль над собой. И над ними.
— Брось. Если бы его не было, знаешь что было бы? Дети бы выбили стекла, спустились бы по водосточной трубе, директора бы повесили сразу, а любимых учителей заперли — и подожгли бы здание. Выпустили бы одну тетю Клаву. А ты говоришь…
Вот и звездочка затеплилась наверху, вот и слава Богу. Потеплело где-то там, в вышине. Кончился этот страшный декабрь. Кончился, ушел, сгинул — с ночами, полными мрака и ветра, и грязной бахромой снега на крышах, мертвым, цепенеющим месяцем, когда еще царила зима и зимний земной шар катился с ужасом в сумеречную темноту дня, в беззвездный мрак и холод ночи, в тьму подворотен и преисподней… Вот он и кончился! Затеплилась первая звездочка — заплакала вода, ледяной свод дрогнул — потекла за ворот первая капля талой воды. Вот и звезда задрожала над миром, и глаза мои уже там, наверху… Это успокоение. Пойду к Мишелю, принесу благую весть…
Вот уже и январь. Это конец зиме, конец… Земля повернулась. Что-то произошло. Что-то случилось в мире… И так страшно было жить в декабре. Вот он и кончился. Как-то мягче стало в небесах, что-то всхлипнуло в вышине, дрогнуло — кто-то расплакался, раскаялся… И зима отпустила город. Там, наверху, пролетело весеннее божество. Скользнула тень неземного крыла — и стало тихо в природе. И вечерние окна зажглись иначе — с надеждой… В лицо мне какнула птичка еще ледяной и горькой зеленью, но уже с первой весенней икринкой — нежной каплей тепла. Пойду, пожалуй, к Мишелю, принесу благую весть.
Пойду к телефончику, наберу пальчиком зазябшим номерок, подышу в эбонит трубочки, согрею теплым овечьим вздохом ледяной диск, затуманятся цифирки, а я все равно увижу при свете звезды, наберу номерок искомый, буду ждать ответа, топтаться в заблеванной будочке, дышать водочным перегаром, проспиртованным душком привокзального квартала, где у ханыжек из теплых мокрых ртов нестойких сигают к небу синенькие алкогольные огни. Погрею в кулачке трубку и услышу отзыв (пароль). В мокром, тающем стекле плачет, весь в кровиночках семафорных, город. И напрошусь в теплую паркетную комнату, к Мишелю… А ночью пойдет снег, первый или второй в этом году, повалит снежок, засыплет будочки и кровельки, церковки и луковки, трамвайные пути.
И из трубочки Мишель пригласит пить чай. И ведомый мокрой весенней звездой я пойду… Пойду с благой вестью.
«В ЕВРОПЕ ХОЛОДНО…»
А потом от Мишеля я позвоню Гиршойхету:
— «Давай ронять слова…» — начну я.
— У телефона? — спросит Гирш, слегка не понимая.
— «Я слово позабыл, что я хотел сказать…»
— Фимочка? Привет. Ты забыл сказать «Здравствуй». Что же ты пропал? И голос у тебя сел…
— «Во всей Италии прекраснейший, умнейший, любезный Ариост немножечко охрип…»
— А-а… — потеплеет Гирш, узнавая. — «Ты наслаждаешься перечисленьем рыб и перчишь все моря нелепицею злейшей?»
— «В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея…»
— Фимочка, «не искушай чужих наречий».
— Что делать, если «на языке цикад пленительная смесь».
— «Из грусти пушкинской и средиземной спеси»? — спросит меня он.
И тогда я перейду на прозу, не выдержав напора:
— Привет, привет… Это я.
— Откуда ты звонишь? Случайно не «с улицы, где тополь удивлен»?
— Нет, я из тепла, из комнаты Мишеля… Пью чай. Пьем чай и говорим о Шурике. А ты?
— Да так, ничего. Читаю. Вот книженция любопытная… Заходи. По вечерам мы принимаем… Мишелю привет.
— А сегодня рождество Христово. Знаешь? И пахнет весной.
— Да, да, у нас тоже. Просто совсем меняется воздух… Правда, довольно холодная весна. И «голодный старый Крым, как был при Врангеле — такой же виноватый…» Спасибо, что позвонил. Приходи. Маме привет. Звони… Привет Мишелю.
Звони… Звони… Звони… — как эхо.
ДОЖДЬ И СУМЕРКИ
Какие мы все бедняги! Убитые горем, без денег и женщин… Куда нам пойти? Вокруг нас осень и дождь. Осень и шелест. Кругом такая желтая погода!
Сколько лет идет дождь и моет нашу мостовую, а в подъездах стоят и безотрадно мочатся в сумерки белые кони, пока балагулы не сгрузят уголь. Почему-то всегда уголь сгружают в дождь и в сумерки. Лошади заходят во двор сами — они уже знают дорогу. И молча сгружаются.
В такой дождь спят все площадочники города. Им недолго еще осталось. Скоро их совсем не станет. Вот уже последний — Мендель — сгорел от водки.
Привоз пустеет. Ветер работает подметальщиком. Он из богатых нищих. Он тот, кто собирает в свою торбу остатки фруктовых обедов. Ночью ветер пирует. Запах этого пира дает нам счастье.
Но пока — дождь загоняет последнего прохожего под навес. Крупные слезы роняет мясной корпус в пустое поле Привоза. В корпусе пусто, как в церкви. Дождь тихо стучит в высокие окна. В углу над кучей городского говна, летают и воют волосатые сумасшедшие мухи.
Ветер и дождь относят в Александровский сквер старые газеты, клеит их на пустые скамейки… Вздуваются от ливня события в Югославии, военный переворот в Дамаске, падение правительств, маневры НАТО, выборы президента, на полях республики… На полях республики гуляет дождь. Дождь безнаказанно владеет переулками. Врывается на броню мостовых. Вталкивает в подъезды одиноких старух.
Хорошо сидеть в такую погоду где-нибудь в уборной на пятом этаже и смотреть на крыши: там гуляет парижский дождь и опускаются знаменитые одесские сумерки… В канализационные трубы прибывает вода. Из средневекового окошка совиной уборной виден кусок здания в мавританском стиле. Там дождь неприступен. Гуляет вовсю, моет старые камни. Там начинается осень.
Октябрь. Пора натягивать брюки. Пора искать работу… Осень — это нехорошо. Это когда мокрые дороги и чавкающие в грязи туфли. Пора поисков еды. Пора поисков… Пора поисков…
ПОТОМ ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
… На Староконном было людно и рыбно. В сверкающих аквариумах лениво плавали пожилые китайские вуалехвосты в густой кровавой чешуе, бегали в чистых, как слеза, водах юркие сперматозоиды мелких живородящих гупий. В цветных стекляшках и диковинных пуговицах, в переплетах бывших изданий «Анакреон» и «Нива» отражался веселый одесский мир. Старички в узких пасхальных брючках – старых, заглаженных до блеска штанах в полоску (а-ля Макс Линдер) продавали и никак не могли продать тесемки от цейссовских пенсне, авторучки без колпачков, открытки с видами Конотопа и Праги образца 1908 года, лакированные заготовки от бывших ботинок с красными пыльными стельками, где когда-то лежал забытый бабушкой бинокль из бархатной ложи одесского городского театра, с каплями свечного нагара на плечах… Приходил сюда знаменитый Гуревич, ведя за руку задумчивого сына. На полу и асфальте известный художник торговал картинами и багдадским сыром. Высокий, похожий на Вана Клиберна Володя Стрельников не очень успешно продавал старые книги, писал акварели. Приходил увенчанный командорскими усами, с тремя попугаями на плечах, неунывающий Люсьен Дульфан. Появлялся Валик Хрущ – энергичный, бодрый, в серой элегантной шляпке, интересовался стамесочками, замочками, птичками, рыбками, старыми фолиантами, ценами на нефть, старыми автопокрышками, каучуком, хорошей оптикой, освежителями краски. Сияло одесское солнце, жизнь была прекрасна и впереди…
2
…Потом все изменилось. Всюду была какая-то неясность. Денег не платили, аплодисментов не было слышно, лучшие книги исчезали с прилавков, зелень продавали по высокой цене, фильмы снимались по чужим сценариям, пахло нефтью…
Дул ровный, как веревка, ветер. Шел 1980 год. Дул, раздувая жабры, теплый ветер с окраин. Таяло в небе, на бульваре звенели в ведре дворничихи сосульки. За окном, освещенное жабрами рыб, мерцало большое тяжелое море. Над зданием оперетты – мокрый, кривой месяц.
Был март. Кричали вороны. Полной грудью дышал пустырь, шевелился ночной чернозем, стадион еще не был построен. Кругом были ночь и туман, заваленная сырыми досками пустошь, заколоченная на зиму луна. Начиналась какая-то дикая весна, с ранним цветением и морозами, по ночам снились кошмары…
Где-то далеко Хрущ задыхался от столичного смога, на магнитофонные ленты наматывалась жизнь, а счастья все не было… У Вики пили чай, с крепкой, но не той заваркой, читали стихи, смотрели на икебану за окном, вспоминали прошедшее лето, играли в слова и молились. Билли преданно смотрел в глаза, на морде у него моталась слюна. Порто-франко медленно опускался на древнее дно…
ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЕТА
– Ты уже встал, Гедали?
Это мама. Мама спросила и вышла в деревянную дверь – в солнце, – и исчезла, унесенная солнечным ветром. Она сама стала светом… Где я был? Я спал под пахучим деревенским пододеяльником и совершал бессмысленный полет в узорах обоев. Узоры пульсировали и держали меня крепко.
– Ты уже встал, Гедали?
Мама ушла, оставив эту поющую фразу в хате, и она повторилась. Меня спрашивал мамин голос. Я уже встал. Гедали – это я.
Я, ослепший в прохладном полумраке деревенской кровати, откинувший козлиную шкуру одеяла, ослепленный смуглым блеском своего детского тела. Я, согреваемый вечным, бессмертным библейским огнем моей бабушки Мирл. Я проснулся. Смуглый отрок с тонкой еврейской кожей и потрясенным скелетом. Тонконогий курчавый ингеле встал горячей от сна стопой на деревенский пол…
Оставляя жидкие морщинистые кизяки на утренней земле, в глубину двора уходила корова. Вишневые стволы горели на солнце… Белье улетало в синее египетское небо… У моего глаза, потрескивая, как на огне, сидела стрекоза.
– Маня, увизьмить свое ведро, он уже полный!
Это бабушка Мирл.
– Гедали уже встал?
Я беру стрекозу за твердое бестрепетное крыло, с трудом отдираю ее от своей головы, смотрю в выпуклые, неземные глаза, в которых ключевой холод; она выгибает горячее длинное тело в пластинках, присасывается к самой себе… Я ее отпускаю, и она, подумав, летит в огороды. В полете я вижу, что у нее голова в скафандре.
– – Ты уже встал, Гедали?
Я уже встал…
НАД МОЛДАВАНКОЙ НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ
…На балконе шумит дождь.
Там ночь. Древняя ночь, похеренная культурой. В тропических ливнях зреют папоротники. Мокрая тьма, в которой набирают влагу нездешние растения. Треск молний над дикой, но плодородной планетой.
Уснул дядя Моня, спит дворник Степан. Спит без сновидений. Дышит алкогольным смрадом, дергает во сне деревянной ногой… Уснул безумный Наум, спит тетя Геня, снится ей (почему-то) Испания, Израиль, дядя Монус в чалме, слепой продавец примусных иголок, обливающийся потом, гнилой и сладкий Привоз, дочь, выходящая замуж за араба…
Спят жители и соседи, квартиросъемщики и жильцы… Уносится вприпрыжку ночным богомолом, хромающим кузнечиком чужого несчастья ночной гость по мокрым крышам и исчезает в кромешной тьме, в теплой одури дождя…
Шумит, шумит над Молдаванкой первозданный ливень… Я подставляю под дождь свою бедную сумасшедшую голову, остужаю ее – и тоже иду спать. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи…
Об Авторе: Ефим Ярошевский
Родился в 1935 году в Одессе. Много лет работал учителем русской литературы - и одновременно был яркой фигурой одесского андерграунда. Печатать его начинают лишь в начале 90-х... Повесть "Провинциальный роман-с" - культовый текст в местном самиздате 70-80-х годов - впервые был опубликован в 1998 году в Нью-Йорке, а позже переиздавался в Одессе и Петербурге. СТИХИ печатались в "Арионе", "Новом мире","Октябре", "Крещатике" и др. журналах, в антологии "Освобожденный Улисс". В 2001 году в Одессе выходит маленький сборник стихотворений "Поэты пишут в стол", в 2005-м - книга "Королевское лето", где впервые довольно полно представлены проза и стихи автора, в 2006 - книга ПРОЗЫ - "Провинциальный роман-с.Лето и ливни" (изд-во "Алетейя", С-Пб.)... В 2010 году - снова в Одессе - вышла большая книга СТИХОВ - "Холодный ветер юга".

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы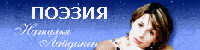 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

