МИХАИЛ ВОЛОВИК ● ЭЛЕГИЯ ВОЗВРАЩЕНИЙ ● СТИХИ
 НАБЛЮДАТЬ И УЧАСТВОВАТЬ
НАБЛЮДАТЬ И УЧАСТВОВАТЬ
Чем дальше, тем длиннее дни,
короче годы.
Ты говоришь себе: смени
пластинку, лодырь!
Они проходят без следа, –
очнись, приятель:
вся жизнь – иллюзия, когда
ты наблюдатель…
Шепнешь: «Дай знак!» – старинный перстень
прольет янтарную печаль.
Под одиночеством созвездий
мигает поздняя свеча.
О чем горит фитиль полночный?
Неужто тщится он согреть
сквозь дуло скважины замочной
чужую душу? Или смерть
пугать задумал хлипкой тенью,
во мрак дрожащей со стола?
Но только пламени смятенье
двоит в своем зрачке смола.
И ты покинешь прежде дом,
потом – свой номер.
И с глаз долой – из сердца вон:
как видно, помер.
Из дальних странствий воротясь,
найдешь чужбину
на родине – так рвется связь:
как пуповина…
Того, кто понял, верный жребий –
ловить в кромешной пустоте
напоминания о небе,
но быть прикованным к черте,
что разделяет свет и темень.
Ну что ж, свеча еще горит,
и лишь звезда твоя – не с теми,
она не с теми говорит!
Помнит ли наша душа места, что она посетила
с телом при жизни его? Помнит ли прикосновенья
к душам другим, другие тела предержащим,
что в пути повстречали мы? Есть ли такая сила,
могущая одолеть беглянки-души смятенье
перед небытием, бедную нашу плоть разящим?
Мы, живущие, можем ли знать безупречно, какие
цели назначены нам, на что нам искать ответа, –
прежде конца своего? Едва ли. Мы только,
к мертвым на кладбище приходя, смерти чужие,
крикнуть способны: «Я люблю этого человека!»,
став на колени в изножьи его могилы, только.
Все миллиарды землян, каждый из тех миллиардов,
зная, – разве смеем мы знать, помня – смеем ли помнить?
Кружим и кружим рядом, словно слепые, на ощупь
в средневековой Европе, путаясь в метрах, ярдах,
аршинах оград, силясь свой долг напрасный исполнить
перед небытием, в котором судьба нас полощет.
Ах, судьба! Бессмысленно слово это язык катает
камешком грубым во рту, ранясь об острые грани,
все никак не устроит удобно, все его не обточит, –
в звуках ли этих дело? Прав, кто судьбу принимает,
а кто принимает ее за крест, готовый страданьем
вину свою искупить, тот душу свою морочит.
Что, кроме имени, мы оставляем, зачем надгробья
пачкаем пенями, мертвых пороча, смущая прохожих?
Ведь если наша душа за гробом песни слагает –
нет в тех песнях тоске и жалобам нашим подобья,
нет вопрошаний «за что?»,
ни скорбных стенаний истошных, –
лишь любовь обретенная, лишь любовь такая,
какая могла бы найти на Земле нас, но нет фотографий,
нет и свидетельств иных, – чистота следов не оставит,
а то, что мы называли любовью, чему посвящали гимны,
калейдоскопом всех Лесбий и Делий, Коринн и Кинфий
нас ослепило, захлопнуло створки заветных ставен,
и мы не знаем, что и кому мы кричим в эти могилы.
Все-таки, будем ходить к ним на кладбище, будем
спрашивать их совета, смиряя свою гордыню
перед бессмертьем их душ, таких же, как наши,
но зрелых уходом своим. Прислушаемся. Пребудем
с людьми в этом мире, как мозаика на витрине,
не зная пока, есть ли еще и какая мозаика краше.
* * *
Теперь могу подумать о другом,
побыть с другим попутным интересом.
Когда случится выжить, то вдогон
жить начинаешь снова, словно лесом
блуждал нещадно – и пришел к жилью,
где отогреть тебя еще способны.
Конечно, трудно к чистому белью
привыкнуть сразу, но уже позорны
лохмотья, и хорош головомой
не только шевелюры – мозговой.
А выглянешь в окно – какое чудо
во вне тебя земное бытие!
Я, право же, соскучился, покуда
с самим собой так долго жил вдвоем.
Прочь, аутизм! Бездарно – падать в аут.
Не больше чести, чем справлять нужду, –
лезть под колпак и наблюдать, как вянут
цветы в твоем искусственном саду.
Пойду-ка поучаствую. Гарсон!
Подай мне света с четырех сторон!
* * *
Песок на берегу был испещрен следами
каких-то птиц. Прикинь: пустынно, а кругом –
такое множество, – не мы, не то, что с нами, –
кипенья жизни! Что ж, и мы здесь. Поживем.
Сидим на берегу, бросаем в воду горсти
чужих следов, молчим, и общее меж нас –
недоумение: к чему такие гости
друг другу, и реке, и миру?.. Раз на раз
приходится признать навязчиво похожим
на самого себя. И в нас природно лишь
стремление пройти и сбросить эту кожу…
Не слушай!… Слушай, мы – единственные – можем…
Ну что же ты молчишь? Ну что же ты молчишь?!!
* * *
Случайности не бывает, и зряшного в мире нет,
и значима каждая мелочь, несущая нам привет.
И всем, кого мы любили, чье имя произнесли
хотя бы однажды, – всем им поклонимся до земли.
Неведомо нам, что будет, и прошлого темен смысл,
но если любой из нас – остров, или хотя бы – мыс,
давай доверять друг другу и запоминать свой путь,
и это уже – так много, что, может быть, в этом суть.
* * *
Смеркаются образы призраков-мороков, если
в тот край ты вступаешь, кругами сжимая полет,
где тихая мудрость за пазухой долгой болезни
рождается, зреет и смысл бытию придает.
Какая неправда какой ядовитой занозы
тобой помыкала, покуда, беспечно здоров,
ты числился этого сада воспитанной розой
и радовал свежим румянцем своих докторов?
Они и кричали: «Безумец, безумец!» – вдогонку,
когда, отвернувшись, ты стал непонятен для них.
Но эта настройка!.. Как тонко, пронзительно, ломко, –
прощайте! простите!.. Оставьте, – сказал, – их двоих.
Кто это сказал? Уж не тот ли спустившийся с лестниц
Садовник бессонниц, бессонный Учитель? И кто
те двое: болезнь или мудрость? И как это – вместе,
когда вечереет, и роза – уже не цветок?..
* * *
Ты нырял со скал, пусть не самых крутых,
на любой глубине, но не в водоворот,
и с инструктором в горы ходил, и болот
не боялся с проводником, – каких,
к черту, еще не хватало тебе
экспедиций почти туда?
Но пришла пора, и ты загрустил:
оглянулся, а – ни следа.
Кем ты не был в стае, назвавшись – один,
чтó хотел получить, да слабак был отдать,
ибо так оценил – как сквозь сито цедил, –
все одно разбазарил… Не тщись собрать
жатву в том поле, где сеял дурман,
не рискуя своей пустой
пустотой. И эхо стучит ушах,
изнуряя маятник твой.
Весь багаж – что понял: нельзя повторить
каждый вдох, каждый взгляд, каждый зов, каждый шанс,
и вернуть – невозможно, но здесь и сейчас
ты под звездами ляжешь, чтоб снова быть
глиной, гвоздем, заготовкой, зерном, –
кто еще оспорит судьбу,
поперек скрижалей крича ее,
прорастая в ее табу?
* * *
Вон пробежали равниной снежной,
вприпрыжку, боком, плечо вперед,
мальчик с собакой: собака лает,
мальчик хохочет – и, распростерт
вдруг на снегу, широко глазами
небо вбирает, как по местам
юности странствие старик совершает.
И тихо-тихо. И здесь, и там.
* * *
Настолько мгновенное лето,
что все мы остались людьми:
хватило и чуда, и света,
а может быть, даже любви.
И в самом звучании мая
на разных его языках
полено – и то, зацветая,
себя продолжало в веках.
Лишь слово осталось бесплодным,
весь мир перетрогать успев,
и, сколько ни грелось, холодным,
не годным пройти, не задев.
«Трава себя ветру вверяет,
не ханжески птицы поют.
Весь мир – балаган, где играют,
трагедию жизни дают».
Так думал и тоже остался,
когда вышел вон, вышел вон
из общего иконостаса
заветному лику вдогон…
* * *
Он был старик.
Ему приснился сын,
не виденный, считай, уж четверть века
и вот, возникший на пороге.
-Эй! –
он крикнул сыну. –
Дверь не закрываешь!
Дом выстудишь, болван!..
И сон померк.
Да, с ними так теперь,
со снами. Никому,
как говорил отец (его отец)
не объяснишь, – от этого жестоки
все кажутся, хоть это и не так.
А сын-то, сын! Хорош –
раззявил двери, и…
и как хоть он?
Как выглядел-то он?
* * *
Ты ступаешь по водам, сказал я себе,
обернувшись на детство свое,
но в ответ промолчал, не прощая тебе
это взрослое и не мое.
Так трясина в объятия тело берет,
так сжимается кольцами ложь:
ты уходишь все дальше, и ночь напролет
между нами уже не сотрешь.
И в ладонь убирается боль, – на ладонь
так ложится любимой ладонь.
И с огнем уживается только огонь,
и огонь поглощает огонь.
* * *
Я жил однажды и совсем
все поле исходил.
Вот я на краешке присел –
и жизнь свою забыл.
Из головы моей растет
колючая стерня.
Пусть ангелы Твои, Господь,
перевернут меня,
чтоб я пошел вниз головой,
ногами к небесам,
и я рождаться буду вновь,
по-правильному – сам.
И если колос выйдет пуст –
кто ж будет виноват?
Я, разомкнуть не смея уст,
пойду, куда велят.
* * *
Было мало страданий,
поражений, потерь,
но теперь наверстаем,
навистуем теперь…
Прежде мог отстраненно,
остроумно и зло –
как стекло: просвещенно,
да, увы, не тепло.
Но и благости стену
расшатали ветра.
Так прими перемену:
на сегодня – вчера,
на расплату – обманов,
на итоги – начал.
Но и этого мало:
это лишь перевал.
Под уклон все быстрее
катит угол души,
дух смиренный за нею –
ну, и ты поспеши,
мой сосуд нечудесный,
одноместный скакун,
для грядущего тесный
и былому не кум,
и не сват, и не ровня,
а надвинулась зга
света в мире огромней,
разведя берега.
И, отдавшись теченью,
бросив весла и руль,
свет сливается с тенью
тихих струй на ветру.
* * *
Еще летают осы, мухи,
клопы и божии коровки,
и пчелы роются в цветах,
ползет слизняк с ногой на брюхе,
и всё живет без остановки,
не отвлекаясь, просто так,
но входит осень: озирает
всю эту летнюю возню
и, глянув на часы, играет
брелоком и не спеша
закуривает: пусть их еще порезвятся.
* * *
Обнимемся, как напоследок.
Так страшно, а надо идти.
Уже ты потомок и предок, –
осталось ли что впереди?
Вот наши доспехи – для брани.
Вот мягкий халат – чтоб любить.
Мы были не теми дарами,
какими не грех дорожить.
Бери символический посох
и маску достань для лица.
Достоинство – сильная поза
играющего в мудреца.
* * *
Они уже были: и Фидий, и Бах,
и Дант, и Веласкес, и Гегель, –
когда мы вбежали сюда впопыхах,
чтоб вынести старую мебель.
Но вот мы уходим, а мебель стоит,
за нами захлопнуты двери.
И Некто, Хранитель, недремно хранит,
метлой шелестя в интерьере.
* * *
Трудный отрезок пути
всегда покажется длинным,
но если дано пройти
его до конца, – оглянувшись,
мы знаем, что борозда
проходит по сердцевине,
по самому из «всегда».
А душою пригублен ужас.
Это – закалка иглы,
пробившей новое русло
стоячим водам игры
намерений и оправданий.
А жизнь голодна бедой,
как сердце осы – укусом,
и взятый в ладонь огонь
оправдывает ожиданья.
* * *
Трамвай так долго ехал по мосту,
что закатилось солнце, и стемнело,
и в темноту въезжая, на ходу
кому-то он сигналил то и дело.
Но не было ни скуки, ни тоски,
ни нетерпенья в пассажирах рядом.
Один вожатый нажимал курки
каких-то кнопок за каким-то надом.
И я подумал: вот какая чушь
картину нашей жизни наполняет.
* * *
Он так устал, что потерял ключи
к реальности. Как раз весна случилась,
слетелись натуральные грачи,
и голова гормонами спьянилась.
Не сделав то, что делал он всегда
и в марте, и во времена иные,
он отмочил коленце хоть куда:
шагнул в окно, где мы найдем и ныне
его последний в жизни силуэт:
сутулый и нескладный, не похожий
на тот, что в детстве был, скорее, свет, –
скорее, тень с ободранною кожей.
* * *
Обладая вялой волей,
темной склонностью – грешить,
человек выходит в поле
в одиночестве побыть.
Он расправит на просторе
легких емкие мехи –
и завоет, и поборет
все соблазны и грехи.
И вернется он в ячейку
социально невредим.
Человек, – он, значит, чем-то
от животных отличим.
Об Авторе: Михаил Воловик
Специальность: нейрофизиолог. Основные публикации: альманах «Современники» (Нижний Новгород, 1988), Антология русского верлибра (М, 1990), альманах «Траектория» (автор-составитель, Нижний Новгород, 1996), «Золотой век», N 12, «Педагогическое обозрение», 1998, Арион, 2002 и др


 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы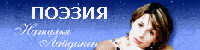 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

