БОРИС НОСИК ● В КАМИННОМ ЗАЛЕ РЕСТОРАНА ● ПРОЗА
 Помню, что заснул я под утро, всю ночь читал в своем спальном мешке при свете ручного фонарика повесть Левки Ларского в свежем номере журнала «Время и мы», который одолжила мне до утра графиня Олсуфьева.
Помню, что заснул я под утро, всю ночь читал в своем спальном мешке при свете ручного фонарика повесть Левки Ларского в свежем номере журнала «Время и мы», который одолжила мне до утра графиня Олсуфьева.
Что там мне успело присниться под утро, вспомнить не могу, может, сооружение вавилонской башни, потому что проснулся я от бодрых американских криков, от рокочуще-громких немецких и певучих китайских возгласов. Не знаю, о чем говорили китайцы, но немцы с американцами жаловались, что ночью было свежеповато для начала сентября, похоже, они не ждали такой подлянки от летней Италии…
Я сонно вылез из спального мешка, потом из палатки, огляделся и подумал, что графиня была права насчет удобств… Обширный овраг и в нем что-то вроде дикого кемпинга – пяток двухместных палаток, куча всякого мусора, картон, пластик, гондоны, впрочем, дерьмом не пахнет, уже и на том спасибо: палатку мы как-никак ставили затемно, всяко случается…
Овраг этот был в десяти минутах езды от Флоренции, и дорогу они мне вполне толково объяснили, их сиятельство, небось, не мне первому объясняла. Правда, я слушал не вполне внимательно, потому что уже клонило в сон и все же мечтал я, что она разрешит постелить спальный мешок у нее в саду под деревом. Но она довольно жестко порекомендовала нам этот адресок в овраге…
И вот уже утро, еще одно счастливое тосканское утро, я вышел на волю в еще затянутый туманом овраг, отошел в кусты по малой нужде и подумал, что может, она и была права, графиня. С ихней, графиньской точки зрения, определенно права. А то глянула б она под утро(или даже ночью при луне и бессонице) в свое окно, выходящее в сад, и увидела, что бродячий московский прохиндей мочится на ствол дерева, посаженного ее дедом-генералом или отцом-полковником, a может, даже не двумя русскими графами, а известным итальянским принцем Боргезе , Дашкиным поклонником… Собственно, по скудости своего светского и советского опыта я даже представить себе толком не мог, что могла подумать, глядя на подобное зрелище русско-италианская аристократка, рожденная в городе Данте Алигьери (где у ее мамы, в девичестве графини Шуваловой, уже с первого ребенка была собственная повитуха, жили же люди). Воображение мое лениво забуксовало, да, может, оно и к лучшему, потому что если б я ко всему этому знал o высочайших связях графини, не только наследных или родственных итальянских, но хотя бы и нынешних, русско-диссидентских (Бонэр и Сахаров, Берберова, Булгакова, Кузнецов, Максимов, Солженицын, Надежда Мандельштам и тому подобное), я не смог бы, наверно, держаться с такой наглой непринужденностью и даже получить приглашение на ужин. Честно сказать, ужин мне был ни к чему, с едой проблем у нас не было, а вот ночлег… Я понимал, что даже неглубокая обида моя была бессмысленной. Что с них взять, с иноземцев …
Графиня, правда, была русская, но она все же была заграничным, не слишком понятным существом. У нее была русская, но какая-то другая русская речь, пропитанная другим жизненным опытом, другими воспоминаньями. Позднее я часто замечал такое при общении с эмигрантами той, первой волны, даже по-русски читающими, даже пишущими по-русски (скажем, со Струве, с Лосскими). А тогда-то я вообще про их жизнь мало что понимал, И то сказать, меня лишь за год до того выпустили впервые на Запад, и я ненасытно глотал города и дороги…
Я тогда примчался во Флоренцию совершенно ошалевший от впечатлений, от умбрийских и тосканских красот природы, от памятников, от бесценных руин, сосен и моря, совершенно свободный и совершенно счастливый. Притом я был в ее глазах простой совок, не совершивший на родине никаких диссидентских подвигов, не приговоренный к смерти и не обмененный на шпионов, как Эдик Кузнецов, не выступавший на процессе Синявского и даже ничего ни против чего не подписывавший, поскольку я не тусовался в Москве, а все время где-то там шлындал по горам и кишлакам Таджикистана… Адресок ее мне подкинул, между прочим, не какой ни то видный страдалец (я и с Аликом-то Гинзбургом подружился только лет через двадцать, в Париже), а Петечка Вегин из Дома литераторов. Уж он-то всех знал у себя в конурках Московского отделения Союза или в ресторане ЦДЛ и со всеми дружил…
И так уж графиня Олсуфьева проявила ко мне достаточно интереса и доверия , пригласила меня к себе на ужин, полдня со мной беседовала. Вот только раскинуть спальный мешок у нее в дедовском саду не пригласила. Случись это все теперь, я б и в мыслях не держал такого для нее неудобства, но тогда…
Да в общем и тогда все обошлось великолепно. Вышло солнышко, разогнало туман, мы свернули мешки и палатку, а потом сели под деревом завтракать. Завтрак на траве – чудо. Отчего в последующей жизни перестал я завтракать на траве? Нет, конечно, я и сейчас не хожу жрать во французский общепит, но и на травке ведь не стелю больше одеяло или рогожку. Сижу в одиночестве на деревенской кухне и жую чего ни то вполне равнодушно Годы…
Но тогда. Тогда и аппетит был другой. Безудержу глодал я хрустящие булочки-панини с мортаделлой и не толстел, живот хоть бы что – живот оставался впалым.
За тогдашним завтраком я пытался объяснить своей иноземной подруге, зачем я всю ночь жег фонарик и отчего мне невтерпеж было дочитать эту русскую повесть еще до прощального визита к графине Олсуфьевой, которой я должен был вернуть эмигрантский журнал «Время и мы». Мог ли я знать, что минет десяток лет и редактор этого журнала Витя Перельман (уже перебравшись вместе с долговечным своим журналом в заокеанский Нью Джерси) начнет вдруг, одну за другой, печатать мои тогдашние самиздатские повести и окажется, в сущности, первым издателем моей «нетленки». Sic tibe terra levis, дорогой Витя П., былой труженик гордой некогда «Литературки» с Цветного бульвара! А ведь я и знать тебя не знал , бедный Витя, в престижных кабинетах «Литгазеты», выходивших окнами на Московский цирк и Трубный рынок, где я покупал последние в жизни цветы для чудной моей мамочки, ее любимые гвоздики. В «Литературке» я бывал в ту пору редко, а все же встречал в ее пыльных коридорах и офисах долговязую однокурсницу-очеркистку Лорку Левину (всерьез или в шутку взявшую псевдоним Великанова), поучительно нежную критикессу Аллочку Латынину и русого в наши институтские годы моего дружка Вальку Гендельмана (он в газете он уже был замглавного и успешно перевоплощался то в партийного босса т. Горбунова, то в былого циничного умника Валю, который все же вздрагивал при непристойном оклике: «Гендельман !»)…
Простите меня за этот всплеск весенних воспоминаний, особливо за поход в цветочный ряд Трубного рынка, обильно политый моими слезами, за возвращенье в запорожце сумасшедшего Вити Хинкиса и мольбу к грохотавшим наперерез московским самосвалам: «Ну, стукни, что тебе стоит!»
…Вернемся однако к утреннему завтраку во флорентинском овраге и к первой повести Левки Ларского, которую я читал в ту ночь при фонарике в спальном мешке. Это была смешная военная повесть о «похождениях ротного придурка». Левка учился со мной в Полиграфическом институте, на отделении художественных редакторов, и мы вместе с ним издавали знаменитую институтскую стегазету «Канонада». Унылый длинноносый Левка рисовал очень смешные рисунки, а я писал в меру смешные, но неизменно бойкие стишки. До крайности симпатичный был человек Ларский. Впрочем, там все у нас в «Канонаде» были симпатичные, все любимцы публики и наверняка гении (Сережа Иванов и Валька Гендельман кончили институт на год раньше нас, и после них газету тянули мы с Левкой). Левка был меня на десяток лет старше: кроме нескольких школьников, парни у нас были на факультете демобилизованные, с фронта…
Кo мне они относились вполне снисходительно, прощая мою неуемную школьную глупость, но порой меня грубовато одергивали: похоже, они за меня, трепливого и непуганого дурачка, боялись.
Уже после окончания института, после моего возвращения из армии Левка Ларский мне вдруг позвонил однажды и предложил встретиться. Он пришел на встречу с рулоном ватмана и рассказал, что жена его, полиграфистка, пошла работать, а он вот сидит дома с детьми, немножко рисует, а чаще пишет воспоминания про военную службу, про то, как он был «ротным придурком». Написал он свой мемуарный роман пером на листе ватмана и вот теперь он просит меня почитать, поскольку я был все же на отделении литературных редакторов и могу ему честно сказать, как получается. Я взял, конечно, прочел, но что я мог сказать? Очень жалобное сочинение. Вспоминает и жалеет свою молодость. Ну да, он был никудышный солдат (я и сам был такой же совсем недавно). Был при этом еще еврей (смешной, унылый, носатый). И вдобавок тогда ведь была война. Было в тексте кое-что от Левкиной несравненной грустной иронии, но так мало… Я позвонил ему, сказал без особого восторга,что надо встретиться, потолковать, но мы оба, кажется, не спешили. Что толку в подобном толковище? Из меня вообще никакой литературный ребе. Вот Аллочка Латынина, она б ему все объяснила, как надо писать. Или в «Вопросах литературы (в «Воплях») ему б открыли глаза на литературу. Н о ему, может, и не очень хотелось. Так что мы оба ссылались на обстоятельства жизни, откладывая нашу с Левкой встречу. И обстоятельства мешали. Потому что, едва вернувшись в Москву из гор, я бежал с утра куда ни то в журнал клянчить новую командировку в горы. Мне ее давали охотно, и я , не мешкая, улетал снова, иногда надолго… Ах, как славно было в горах!
В начале семидесятых я собрался в ГДР, где издавали мою ЖЗЛ-овскую биографию Альберта Швейцера и куда тамошняя христиансакая партия (ХДС) звала меня в гости так настоятельно, что я в конце концов решил поглядеть на этот столь доступный кусок Германии. С их пригласительным письмом я и пошел на Колпачный переулок в отдел виз (знаменитый ОВИР) и , едва войдя в овировский зал ожидания, увидел тьму-тьмущую евреев, стоящих и сидящих, ожидая решения своей судьбы. В кабинетах ОВИРа им как раз и давали разрешение уехать на некую историческую родину (не в польские местечки, о которых еще помнили их родители, а куда-то в библейские места, название которых иным из них все же было известно из русских переводов библии)…
Не успел я пробраться сквозь эту возбужденную толпу соплеменников и сколько-нибудь приглядеться к наличным девушкам- полукровкам, как кто-то меня вдруг облапил с радостным криком: « Господи Боже, Борька, и ты с нами!» Это был Левка Ларский, которого я так преступно давно не видел. «Я еду в ГДР, я по приглашению, – сказал я сдержанно, ища глазами дополнительные уши в стенах этого знаменитого на всю страну учреждения.
-Ну а вы все куда? Туда?
Левка махнул рукой на милых дочек, на радостную красотку – жену и сказал вполне обреченно:
-Я вот с ними, на историческую.
Левкины жена и дочки энергично и ликующе подтвердили его слова. Что ж, я давно отметил, что мотором эмиграции были, как правило, женщины. Они старились еще беспокойнее, чем мужчины. И какая же из женщин не надеялась при этом начать на новом месте хоть какую ни то новую жизнь? Пусть даже со старой семьей, но все же на новом месте.
Узнав, что я не еду с ними «на историчку», Левка вдруг опечалился и повесил свой длинный нос. Тогда все уезжающие и провожающие были уверены, что разлука эта навсегда.
-А как же мне быть с твоей рукописью? – спросил я.
-Оставь себе, – сказал он, равнодушно махнув рукой, и в этот момент вся наэлектризованная масса ожидающих вдруг пришла вокруг нас в движение. Одни нетерпеливой кучкой окружали только что вышедших из кабинета, другие возбужденно кричали: «Ларские! Очередь Ларских! Где Ларские?» А один доброхот уже зачастил: «Если Ларских нет на месте, я могу пойти». Но Ларские были на месте, и они ушли в кабинет – на вечный бой, ибо покой нам только снится.
Больше я их не видел в Москве, потому что назавтра я улетел в горы, а потом, понятное дело, уехал в ГДР, а вернувшись, понятное дело, снова уехал в горы, потому что лучше гор были и всегда будут только горы, во всяком случае, дo тех пор, пока носят нас ноги……
И вот прошло всего пять лет, и он вдруг обнаружился на письменном столе у графини Олсуфьевой во Флоренции – перельмановский журнал «Время и мы», а в нем – Левкин роман про его военную службу. Его-то я и читал ночью в палатке. Он был непохож на тот прежний, плаксивый. Совсем другой роман. Очень смешной. Смешней знаменитого «Чонкина». Жутко смешной роман об армейской жути. Жуткой, и все же смешной. А раз видишь смешное, еще можно выжить… Главное, что сам ротный придурок Левка не стеснялся быть смешным: этакий, как это по-ихнему, по-еврейскому, то ли шлимазл, то ли шлюмазл.
Ему можно было над собой посмеяться. Мне, наверно, тоже. Но вам нет. Вдруг вы не еврей. Или, скажем, у вас мама русская, а отец юрист. Да и то бывший отец. Или бывший юрист…
В конце концов я вернул в то утро графине ее журнал с Левкиным романом. Графиню его юмор, похоже, не растрогал, но мы снова проговорили с ней добрых полдня – о том о сем. О моем Таджикистане. О ее детях… Отчего ж мы не говорили о проблемах перевода? Я ведь и сам был заядлый переводчик, ученик Е.Д.Калашниковой, М.Ф.Лорие, Р.Я.Райт. Почему не поговорили о невозможности перевода Платонова (которого она переводила), о прозе Солженицына? О современной Италии? О русской церкви, где она была старостой…
Но, может, она мне все-таки не вполне доверяла . А может, она просто заметила за ужином, что я неправильно держал вилку. К тому же я был тогда слишком упоен своим путешествием, чтобы убедительно описывать ей русские горести, которых я был в ту пору вдохновенный и неустанный печальник. Почему же я не рассказал ей о наших собственных трудностях на пути переводчика? О себе не рассказал. Да честно сказать, и в историю самой этой исступленно трудолюбивой, но напрочь закрытой от меня графини Марьи Васильевны Олсуфьевой-Микаэллис я стал помаленьку вникать только потом, с большим опозданием, задним числом, поскольку всю жизнь крепок был только задним умом. Ну а тогда я просто спешил, рвался дальше, в сказочную дорогу.
Чуть-чуть жалею об этом (оттого, наверное, и пишу). Столько было зацепок для совершенно головокружительных , несмотря на разницу в возрасте и опыте, общих воспоминаний и пейзажей – от Поварской до Ершова! Сколько событий! Ведь и меня и у нее многое начиналось с малозаметного писателя Владимира Дудинцева ….
Помню, вернувшись из армии, я сразу попал на семинар молодых переводчиков при Союзе писателей, a потом на знаменитое обсуждении повести «Не хлебом единым» в Каминном зале Дома литераторов. А этот самый дом как раз и был домом ее, Марьи Васильевны, детства, дом Олсуфьевых на Поварской! Ее туда привезли четырехмесячной из Флоренции, где так благополучно родила первую свою дочь графиня Олсуфьева, урожденная Шувалова. Переводческий же знаменитый период в жизни Марии Олсуфьевой-Микаеллис начался с того же самого нашумевшего романа Дудинцева. И еще было одно незамеченное мной совпадение, о которое не споткнулся долгий наш флорентийский разговор – олсуфьевское Ершово под Звенигородом, в которое я часто ходил на лыжах из академической Мозжинки, сочиняя дорогой стихи, похожие на молитвы… Хотя нисколько не реже, добравшись вечером до Ершова, снимал лыжи и шел на танцы в их дом отдыха.
…Впрочем, чтоб все же понять, в чье обиталище угораздило меня попасть во Флоренции, начинать надо с давних времен, издалека, хотя бы с Петра I, у которого обер-гофмейстером двора уже был Василий Олсуфьев. В 1721 году сам государь вызвался быть крестным отцом новорожденного гофмейстерского сынка и даже заготовил в подарок мальчику библейское имя – Адам. На крестины царь сильно опоздал, успели дать мальчику прижившееся в роду имя Василий, но потом все же звали и так и сяк, и Василием и Адамом, как пренебречь царевым подарком…
Адам оказался шустрым юношей, имел способности к европейским языкам и письменности, служил статс-секретарем у императрицы Екатерины II и притом был славным писателем. У Петровой дщери императрицы Елизаветы обер-гофмейстером тоже был Олсуфьев, пользовался ее безграничным доверием . Внук же славного статс-секретаря Екатерины Адамa Олсуфьева был (уже в середине ХIХ века) московским губернатором и первым в роду получил графское звание…
Так что я, не смыв с кроссовок пыль тосканских дорог, так вот, с пылу с жару вломился (со вполне хилой Пети Вегина рекомендацией) в далеко не последний по знатности русский дом Италии. Семейное олсуфьевское пристрастие к Италии и Флоренции шло еще от прадеда-италофила, а дедушка переводчицы Марии Васильевны обзавелся уже флорентийским уютным гнездом, приобрел этот вот дом с садом (тот самый, где мне ночевать не довелось). У деда были тоже литературные интересы, он переводил старинных русских пиитов и неплохо знал церковнославянский, азы которого преподал старшей внучке Машеньке. А уж главные европейские языки (английский, французский, немецкий, а всего свободнее и глубже – певучий италиaнский), пожалуй что, все знали в этой московской семье. Матушка переводчицы Марии Васильевны, урожденная графиня Шувалова свои воспоминания о бегстве с Кавказа в Италию написала по-французски. Сама, впрочем, Мария Васильевна так и не осмелилась свободно писать ни по-русски, ни на итальянском, знаемом в совершенстве (как жаль, что не смогла !). Не смогла одолеть робости, может, оттого еще, что была в постоянном общении со столь сложными и совершенными твореньями русской прозы.
Во время Первой мировой войны отец будущей переводчицы полковник Василий Олсуфьев послан был на Кавказ, на турецкий фронт. А в 1917 ясно стало, что война меняет русло, и полковник Олсуфьев с женой и детьми (четыре девочки и сынок Алеша) перебрались в Кисловодск. К тому времени в знаменитом этом курортном городе собралось немало беженцев из России, все высшее общество, тогдашний бомонд. Как вспоминала, избежав плена, пишущая супруга полковника Ольга Павловна, Кисловодск казался беглецам надежным прибежищем. Какой же большевик сунется в самую гущу терских казаков и вольнолюбивых кабардинцев? Но надежды оказались напрасными. Большевики сманили казаков обещанием земельных наделов, до того заморочили им головы, что терцы сдали оружие. Лишь кабардинцы свято хранили свои червленые кинжалы, на лезвии которых молодой романтической супруге полковника чудились былые капли засохшей крови, еще со времен незапамятных походов, чуть не Крестовых.
В Кисловодск пришли большевики, но поначалу вели себя смирно. Однако вскорости начались грабежи и разбои: нападали на экипажи и на дома побогаче. Полковник Олсуфьев ушел в горы вместе с Добровольческими отрядами и лихими кабардинцами. Налетом с гор изгнали они на время большевиков, но вскоре обнаружилось, что силы никак не равны и надо уходить. Караван белых добровольцев и их семей потянулся к морю, в сторону Туапсе. Оттуда беглецы повернули к Югу по берегу Черного моря. Уже тогда стало ясно, что в былой империи больше не найдется безопасного уголка для «бывших», и в душе каждого из членов италофильского семейства Олсуфьевых проснулось воспоминание о мирной райской Флоренции. До флорентинской сказки было, впрочем, не рукой подать. Пока что с грехом пополам удалось добраться до черноморского порта Батуми, где в то время стояли на рейде англичане. Отчаянная графиня Олсуфьева сумела подняться на борт английского судна, чтоб поговорить с самим капитаном. Он увидел прелестную утонченную аристократку, которая молила о спасенье семьи. Да он и сам понимал, что им грозит, всем этим измученным, испуганным людям. Он взял их на борт, всю семью…
Скрылся родной берег, осталась за бортом вся «взвихренная Русь», вымиравший с голоду Петроград, бесцеремонная, жаждущая крови и всемирной власти Москва, а где-то там, в Москве – улица Поварская, родной дом, прохладный Каминный зал …
Летом 1919 открылся глазам Олсуфьевым ласковый берег у Отранто… И вот привычная Флоренция, дом, милый дом – теперь уже до конца жизни.
На первое время оставались даже какие-то деньги, разумно положенные в немецкий банк… Многим ли их русским аристократов в той пореволюционной эмиграции так сказочно повезло?
В первые месяцы тосканского мирного исцеления графиня Ольга Павловна писала воспоминания о бегстве из Тифлиса, о бегстве из Кисловодска… Может, пыталась изгнать из души пережитой страх. В своих мемуарах она благодарила за спасение своей семьи благородных британцев. Оставались еще в мире доброжелатели – на дерзком зеленом острове…
Шли годы, подрастали в столице Тосканы графские дети – мальчик и девочки , которые закончили школу и учились в университете, все четверо. Красивые, талантливые, высокообразованные «сестрички Олсуфьевы» славились в кругу молодежи красотой, утонченностью, изяществом – считались завидными невестами. Они нашли себе достойных женихов из отнюдь не бедных семей. Две вышли за стройных элегантных парней из семьи швейцарских итальянцев Микаеллис. А две и вовсе породнились с высокими аристократическими семьями Италии. Всех конечно, превзошла будущая писательница, лихая Даша, Дарья Васильевна Олсуфьева. Через каких-нибудь два года после свадьбы старшей сестры, Марии, вышла она за Джунио Валерио Боргезе из блистательного дома Боргезе. Кто ж не слышал этого имени в столичном Риме или в Сиене – римский папа Павел V был из Боргезе и еще вереница самых знаменитых и богатых людей Италии из той же семьи; наверняка и на славную «виллу Боргезе» набредет путешественник в Италии, и на «палаццо Боргезе», да и на имя красавицы – писательницы Дарьи Боргезе наткнется усердный читатель. Это и была Дарья из флорентийского дома Олсуфьвых… Впрочем, я о ней не услышал за ужином в тосканском доме Олсуфьевых, где говорили о семейных знаменитостях, хотя и не о всех. Кто станет поминать за столом мужа Дарьи, доблестного фашиста-диверсанта Джунио Валерио Боргезе, всего за четыре года до моей флорентийской трапезы отдавшего душу (Богу или диаволу, как знать) в своей испанской ссылке, да и саму бедняжку Дарью, погибшую в автомобильной катастрофе?
– Расскажите о своих странствиях по России, – попросила меня за ужином Мария Васильевна.
И я , конечно, рассказывал – о Русском Севере и Средней Азии, о безграничном гостеприимстве милого моему сердцу Таджикистана. Жаль, конечно, что не слышал тогда о супругах Боргезе-Олсуфьевых…
Здоровенный красавец Джунио Валерио Сципион Маркантонио Боргезе… Всего барского набора имен тут не перечислить, а у дашиного отчима была дюжина титулов: в одном городе он был «принчипе», в другом «принчипе», в третьем… ( как в анекдоте про пьяного в хрущобах: «он везде, а я нигде»). Молодой принц Валерио Боргезе еще будучи курсантом Академии флота считался заводилой, а уж, став отважным моряком-подводником, сделался любимцем самого дуче. Да что там дуче: думается, любимым героем всего итальянского народа сделался (как позднее юркий Пальмиро Тольятти), который (народ то-есть) под водительством Бенито Муссолини благополучно встал с колен и почувствовал себя, наконец, не народом суетливых торговцев, а наследником гордого Рима. Вся эта воинственная фашистская хреновина началась в Италии задолго до торжества усатенького фельдфебеля Шикельгрубера в стране философов и при этом вовсе не обязательно опиралась на завистливое жидоморство лавочников, как в стране Гете и Гейне (один из этих двух немецких гениев, кстати, тоже оказался еврей, куда от них денешься?), а искала вдохновения в Древнем Риме, в ликторских пучках-фасциях и зловещих топориках. И надо сказать, многих «интелло» Европы и твердый этот фашистский порядок, и древнеримский маскарад немало тешили. Скажем, нашего писателя Амфитеатрова или многоученого русского сочинителя Дмитрия Мережковского, который даже поехал в Рим засвидетельствовать почтение (а может, заодно и попросить какой-никакой материальной помощи). Конечно, и в натужной вертикали власти возможно отыскать какую ни то светлую изнанку (кое-кто вспоминает, что даже и богомерзкий фюрер, не говоря уж о Муссолини had some good things) – скажем, уделял дуче внимание римским памятникам, почитал язык древностей. И раз уж заговорили мы о языке памятников , самое нам время вернуться в дом благородных Олсуфьевых, чьи почтенные стены ровно за полвека до моего визита видели блестящую пару муссолиниевского двора – решительную красавицу Дашеньку и самого Джунио Валерио Боргезе, будущего героя-диверсанта.
А все же отметим , что хотя уже и в русском роду Олсуфьевых были увешанные орденами полковники и генералы, флорентийские «сестрички Олсуфьевы» унаследовали в первую очередь не столь модный тогда в Италии милитаризм, а явное тяготение старинного олсуфьевского рода к изящным искусствам и художественному слову. Дашенька, к примеру, стала настоящей писательницей. Понятно, что главный интерес и мода времени в ее в творчестве присутствуют – Вечный Рим! Бесконечный Рим! Но и родные корни не совсем забыты, хотя все же Рим: от него куда деться? Не помню, кто это писал, то ли Стендаль, то ли Гете – что Рим, он как море: чем дальше плывешь, тем глубже. Писательница Дарья (Олсуфьева-Боргезе) бесстрашно вступала в это море, не боясь усилий: две ее знаменитые книжки содержат Рим уже в своем названии: «Гоголь в Риме» и «Ветхий Рим».
Ветхий Рим! Вечный Рим! Все дороги ведут в Рим!..
Но пути дарьина супруга князя Джунио Валерио пролегали по дну морей. Там он ползал со своими коварными целями и смертоносными торпедами: он был офицером – подводником, а потом и командующим знаменитой Десятой флотилией (Дечиме), топившей вражеские суда, а заодно и людишек «водоплавающих», и грузы… Подсчитали, что он отправил на дно враждебные суда общим водоизмещением в 75 000 тон. Какой урон нанесен гордым судам, синим морям и людям!Какая подлость! Но ведь это святое дело – война! Единственно достойное мужское занятие. Спросите про это хотя бы у сроду не воевавшего Проханова, зальется слезами восторга. Истинно мужское дело!
В былые времена профессию героев, вроде князя Джунио Валерио Боргезе, называли трепетным словом «диверсант» (поверите, в Музее ленинградской блокады под портретом самого тов. Андропова была подпись «диверсант»). Мало-помалу и само занятие и газетное злословие позолоту с этого слова стерли (как, скажем, и со слова «секретный сотрудник», «сексот») и оставили его лишь для унижения чужих героев. Вот князь Боргезе и был героический диверсант-подводник. У нацистских же его союзников был свой надземный десантник-диверсант, прославленный Отто Скорцени. Сеяли оба героя горе по белу свету, проливали море вдовьих слез. Кстати, и семье Олсуфьевых, и маменьке Ольге Павловне, и сестричкам Олсуфьевым диверсантский этот промысел вышел боком: призвали в итальянский флот единственного сыночка Ольги Павловны Лешеньку и затопила его корабль со всеми морячками английская подлодка. Те самые английские моряки, что когда-то спасли юного Алексея и всю семью Олсуфьевых от большевистского смертельного разгула, они же утопили бесценного мальчика…
Знаменитая писательница и боевая супруга Джунио Валерио Боргезе, отбывшего после войны четырехлетнее тюремное заключение, погибла совсем еще молодой (каких- нибудь 53 лет от роду) в автомобильной катастрофе. А за год до своей гибели, сохраняя безудержный интерес к литературе и к писателям (да еще к русским!), вызвалась она поработать гидом-переводчицей у посетившей в 1962 году Италию советской писательской тургруппы. Тогда «в загранку» ездили или очень престижные или очень ушлые писатели, тем более, если за казенный счет, от Союза писателей. А тут был какой-то всемирный конгресс писателей, так что от СССР и вовсе поехали одни только сталинско-ленинские лауреаты. И вот один из членов этой писательской группы, знаменитый как автор поэмы «Василий Теркин», а более знаменитый, пожалуй, как главный редактор сверхпопулярного и, вполне, можно сказать, «диссидентского» «толстого» журнала «Новый мир» Александр Твардовский сделал в своем дневнике любопытные записи об этой поездке. Там есть несколько слов про итальянскую переводчицу группы, так что мы можем взглянуть на прославленную Дарью Боргезе как бы со стороны, глазами знаменитого московского редактора, под начальством у которого (среди младших служащих) трудилась, кстати, последняя пестернаковская любовь и героиня:
– «баба несомненно когда-то красивая, но резкая, жесткая до вульгарности… переводит плохо.»
Насчет плохого русского перевода – это понять не трудно. Где же ей было, Дарье, сохранить разговорную русскую речь в иноязычной среде, да eще обрести навыки синхронного перевода? Возможно,именно из-за этого несовершенного владения современной речью и возникало у москвича-поэта ощущение грубости, отсутствия деликатности. Я много раз это замечал при общении с теми, кто родился или прожил всю жизнь за границей, с эмигрантами первой волны. К тому за несовместимостью представлений о «дамской манере» и речи стояла долгая, прожитая в разных странах и в несхожей среде чужая, не слишком понятная жизнь…
Твардовский упоминает в связи с переводчицей и мерзкое имя Отто Скорцени. Тогдашняя молва зачисляла на счет русской жены Боргезе и роман с этим легендарным нацистским диверсантом, который угробив при этом кучу своих десантников, вызволил из-под стражи самого дуче, то ли продлив ему этим жизнь на два года, то ли ее этим изрядно укоротив. Другие прославленные диверсии Скорцени (вроде покушений на жизнь Эйзенхауэра, Черчилла и Сталина) были менее успешными, хотя не менее знаменитыми. Впрочем, и половины фантастических авантюр Скорцени было бы достаточно, чтоб голова пошла кругом у любой романтической женщины…
В «оттепельные» времена Дарья Боргезе успела съездить в Москву и в Ершово, но главным сюжетом ее рано оборвавшейся жизни и творчества оставался Вечный Рим. Изгнавшая сестер Олсуфьевых еще в детстве Москва оставалась для них чужеземной мачехой…
Тем удивительнее было то, что случилось в последние три десятилетия ее полноценной жизни со старшей из легендарных «сестричек Олсуфьевых». Вдруг пробудившаяся Москва, мятежные москвичи-диссиденты, новый дух и новая русская литература, как и ее собственные приходские хлопоты (Мария Васильевна много лет была старостой русской православной церкви во Флоренции) , целиком заполонили ее жизнь в середине пятидесятых. Мне хорошо помнится это время: я только-только уволился в запас с армейской срочной службы и вернулся в Москву. Был конец 1956 года.
По возвращении я попал на семинар молодых переводчиков при Союзе писателей, и торжественное закрытие нашего семинара проходило как раз в «доме Олсуфьевых». Ученики выступали по очереди и благодарили своих наставниц, входивших некогда, еще до войны, в Первый (кашкинский) коллектив молодых переводчиц (Лорие, Калашникова, Топер, Дарузес…). Благодарили за их нынешний труд, за щедрые уроки самоотверженности. Даже я что-то вякнул с трибуны (в первый и, наверно, в последний раз в жизни ) – про «низкий уровень нашего возросшего мастерства». Всех нас потрясло тогда выступление безумного обитателя подмосковной Малаховки, немецкого переводчика Володьки Микушевича, который сказал, что всякий из нас, переводчиков, должен хоть раз в жизни посетить страну изученного им языка. Это значило, что Володьку могут выпустить хотя бы в ГДР, а меня так и вовсе в Англию! Только безумный Микушевич в огромных своих калошах фабрики «Красный треугольник» мог себе вообразить такое в 1956 году. Но может, он просто смог предвидеть то , что пройдет четверть века спустя, когда таким унизительно дырявым стал большевистский железный занавес…
Вскоре после семинара молодых переводчиков я попал в ЦДЛ вторично – собрали московскую «писательскую общественность», чтобы осудить идейно незрелое, а стало быть, порочное произведение малоизвестного писателя Дудинцева «Не хлебом единым». Я не принадлежал к общественности, но меня провел мой друг Витюша Фогельсон, редактор из «Совписа», Царствие ему Небесное. Уж и не вспомню, что именно там было порочного в этом романе Дудинцева.. Кажется, картина всеобщего процветания и равенства при зрелом социализме была там нарисована недостаточно убедительно. Читатель мог усомниться в том, что все жители нашей страны едят апельсины и что знаменитая «продовольственная проблема» решена почти окончательно…
Атмосфера в Доме литераторов была в тот день по меньшей мере наэлектризованной. Конечно, самые дисциплинированные писатели осудили с трибуны недостаточный накал оптимизма и соцреализма в романе Дудинцева, но их обличениям не хватало ни страсти ни убежденности, и зал смутно гудел. Более того, нашлись среди «инженеров душ» и такие, что решились в кои-то веки вовсе не согласиться с линией партийной критики. Скажем, Константин Паустовский. В конце концов, чтоб положить конец любым разночтениям и вынести жесткий приговор опасному роману , выступил приятно грассировавший любимец правящей партии Константин Симонов. Он зачитал свой текст с убедительной серьезностью, потом сошел с трибуны, и писатели встали в очередь, чтобы пожать его теплую партийную руку. Но, Боже, что стало с тогдашней Москвой! По залу пронесся слух, что молодой Евтушенко не подал руки чародею Симонову, который сам ему эту руку протягивал. В среде инженеров душ назревал бунт…
Понятно, что отголоски этого бунта мгновенно домчались за рубеж, в восторженно левую Италию. Хотя до выпуска монеты достоинством в «евро» было еще довольно далеко, в Италии зарождались уже некие початки «еврокоммунизма». Один шустрый итальянский издатель искал переводчика, желая издать мятежный роман Дудинцева для любопытмых читателей. Кто-то вывел его на след Марии Олсуфьевой. Издатель готов был заказать ей перевод, но лишь при условии, что она справится с ним за двадцать пять дней: он должен был обскакать всех конкурентов. Условие было, прямо скажем, кабальное. Однако неистово трудолюбивая графиня уложилась в срок. Так она нежданно-негаданно вошла в мир художественного перевода и главное – рождавшейся в России диссидентской литературы. Но конечно, также и в жестокий мир западной издательской конкуренции с его воистину потогонной системой, в ряды писателей и переводчиков, недоплачивать (или вовсе не платить) которым давно вошло в привычку у издателей всего цивилизованного мира.
– «А зачем ей платить? – удивлялись иные из русских биографов М.В.Олсуфьевой , – У нее свой дом во Флоренции. Графиня! Она это все для души делала …»
Te, кто изучил проблему глубже, подскажет вам, что для души нужен также горячий душ, а горячая вода, даже в жарких странах, стоит не дешево. К тому же флорентийскому православному приходу, о котором она пеклась, деньги были нужны – для бедных эмигрантов, для бездомных советских беженцев…
В общем, к середине шестидесятых годов Мария Олсуфьева стала одной из самых сильных в Италии и самых неутомимых переводчиц русской литературы. Более того, она стала переводчицей новой литературы, привычно называемой советскою (от честного слова антисоветский всем становилось не по себе, оно как-то бросало тень на патриотизм, более того, некстати напоминало о статье 58 УК). Мария Васильевна и стала переводчицей этой с каждым днем все менее лживой и все более искренней литературы: искренность и нелживость были подняты на уровень главных достоинств нового поколения литераторов. Их произведения становились все менее робкими, менее партийными и, можно даже сказать, менее холуйскими, другими словами, менее советскими и, конечно, более русскими. При этом новые русские писатели – ни Булат Окуджава, ни Фазиль Искандер, ни Борис Пастернак -вовсе не притязали на чистоту славянской крови (как впрочем, не притязали на нее до революции ни Державин, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Боратынский, ни Фет ). Да и писали они по-русски заметно лучше, чем те, что размахивали молоткастым паспортом, требуя монополии своей милицейской русскости.
В те дни, помнится, многие наивные писатели, прошедшие уже за половину земного пути и давно удостоенные лауреатских или профессорских званий, стали мало-помалу высказывать вполне зрелые мысли о тоталитарных режимах, открывая читателям те простенькие истины, которые дочке полковника Олсуфьева открылись в двенадцатилетнем возрасте, еще где-то на пути от Кисловодска к Батуми. Эти открытия пробуждали сейчас интерес левых итальянских издателей и щекотали нервы их еще более левым читателям. А стало быть, надо было переводить, срочно переводить
Сердце флорентийской переводчицы обмирало от этой новой прозы, от ее смелости, билось в унисон с сердцами русских писателей и их ненасытных читателей. Да и то сказать, никогда, наверно, в России имена поэтов, прозаиков, критиков, переводчиков не сияли так ярко и на многолюдных вечерах в Политехническом и в тесных кухоньках хрущоб.
Трудно даже перечислить всех тогдашних писателей из России, за перевод которых бралась Мария Васильевна Олсуфьева. Переводила даже такую вряд ли поддающуюся переводу прозу, как «Чевенгур» или «Котлован» Платонова. С трудом представляю себе, как давался ей Платонов, особенно при потогонной системе их труда. Не читал итальянского Платонова, но имел счастье перелистать французский и главное – английский перевод «Котлована»: лишь формальная попытка пересказать, о чем речь. Да и вообще, литературный перевод не был в то время на Западе столь престижным занятием, истинным священнодейством, как в Москве. На Западе никогда не существовало объединений, вроде кашкинского Первого коллектива, не было более или менее прочных традиций перевода, не было восторженной толпы почитателей – у нас запоминали имена не только у автора, но и переводчика. Нашему поколению посчастливилось в этом процессе поучаствовать (лично я, если и был кому известен, то лишь как первый переводчик Ивлина Во).
Но и труд наш был осатанелым. Вспоминается, как живший со мной в деревне под Нарофоминском школьный друг Витя Хинкис переводил «Деревушку» Фолкнера, как у него по два дня уходило на одну бесконечную фолкнеровскую фразу… Адский труд…
А Марии Олсуфьевой достался тогда в Италии чуть не весь цвет русской прозы. Впрочем, я видел на ее рабочем столе и тексты попроще, взволновавшие ее просто как вызов насилию – книги Владимира Максимова или отчаянного Эдуарда Кузнецова , приговоренного к смерти за попытку угнать самолет, позднее высланного за рубеж в обмен на шпионов.
Часто Олсуфьева переводила без заказа, без договора, по своему вкусу. Появился в «Новый мире» под псевдонимом И.Грекова рассказ ученой дамы-математика, написавшей вдруг о своем парикмахере ( «Дамский мастер»). Марию Васильевну потянуло к столу, за перевод. Мне такое понятно: и Сарояна, и Во, и Набокова я и сам переводил без особой надежды соблазнить издателей…
В пору хрущовского «потепления» Мария Васильевна стала ездить в Москву, где у нее появилось много друзей. Опекал ее, в частности, почтенный теоретик «гамбургского счета» Виктор Борисович Шкловский. Само выживание этого шумного литератора в безжалостно вырубленном кустарнике советской словесности было чудом, однако, когда мы слушали его рассказы о былом героизме, нам уже трудно было понять, что за весть принес он нам, молодым, из муторных далей. Помню, как он рассказывал молодым сценаристам на семинаре в Болшеве, что в 1927 году их вызвали на Старую площадь и велели сделать фильм к десятилетию власти. И как они, выполняя заказ, отлудили великий фильм «Октябрь». Переворачивая спутанные листики на столе, классик пробурчал, что теперь это уже невозможно… И тут в дремотной аудитории проснулся кто-то из молодых сценаристов-молдаван (они еще не называли себя тогда гордыми румынами) и сказал, что их тоже вызывали недавно на ту же площадь и просили отлудить фильм к патидесятилетию власти. Просили также добавить что-нибудь свеженькое к бесконечной «лениниане»…
– Так что же изменилось? – обиженно спросил настырный сын молдавских степей.
Шкловский не поднял головы, продолжая что-то бубнить про “то время”. Я думаю, он был давно уже глух.
По приглашению Шкловского Мария Васильевна даже встречала Новый Год за столиком писательского ресторана в Каминном (в обиходе он был также Дубовым) зале своего отчего дома на Поварской. В полночь, когда заиграл гимн на вечную музыку Александрова , Шкловский вскочил и замер в экстазе. Значит ли это, что музыку он все же расслышал? Или узнал бессмертные рифмы Михалкова? Но может, его просто подтолкнула под столом пожилая супруга, дочь того самого Олеши.
Кроме Шкловского, Мария Васильевна дружила с женой академика Сахарова Еленой Бонэр, с Ниной Берберовой, со вдовой Булгакова. Впрочем, при таких сомнительных связях отношения ее с советскими властями мало-помалу портились. Окончательный разрыв наступил по вине Солженицына, который (вняв совету академика Сахарова и его жены) решил доверить Олсуфьевой итальянский перевод своей великой книги «Архипелаг Гулаг».
Нетрудно себе представить, с каким жаром и нетерпением взялась Мария Олсуфьева за перевод этой замечательной книги (по обоснованному мнению Л.Улицкой, в России так толком и не прочитанной). Работала она недосыпая по 14 часов в сутки и закончила перевод за два месяца. И сам Солженицын, и его литературный агент были встревожены ее переводческим подвигом. Солженицын написал ей письмо, сообщив , что лишь на перепечатку книги у его машинисток ушел месяц. По требованию писателя и его агента перевод Олсуфьевой был отдан на экспертизу комиссии, состоявшей из видных итальянских славистов. Сама Мария Васильевна написала неблагодарному автору письмо с описанием своего каторжного труда. В конце концов все обошлось. Итальянские эксперты высоко оценили перевод Марии Олсуфьевой, а издательство получило итальянскую премию за лучшую книгу года. Вручение премии состоялось в театре под Неаполем в присутствии уже высланного в ту пору из России автора и его итальянской переводчицы. Солженицын сменил гнев на милость и был почти любезен…
Всех этих замечательных эпизодов из жизни графини-переводчицы я еще не знал в пору своего флорентийского визита. Так что, возвращая Марии Васильевне журнал «Время и мы», я с увлеченьем рассказывал ей о «ротном придурке» Ларском, с которым мы когда-то выпускали стенгазету в полиграфическом институте и которого я уже, наверно, больше никогда не увижу, потому что он где-то там, во вражеском государстве Израиль, а я туда , по всей видимости, никогда не доберусь…
Что мы знаем о своей судьбе?
Расширялись дыры в железном занавесе. Я женился на парижанке, поселился на хуторе в Шампани и много раз ездил в Израиль, навещая в зимнем Иерусалиме осевшего там сыночка. И всякий раз, попав в Израиль, я заезжал к Левке Ларскому в Тель-Авив, даже ночевал у него однажды. Чаще всего он назначал мне свидания в самых экзотических местах Тель-Авива. Например, в новом корпусе урологического отделения городской клиники, куда он ходил на прием.
– Тебе там понравится, – уверял он, – Много всяческой тропической зелени. И поют птицы…
И правда, птицы пели под высоким стеклянным куполом урологического отделения. Но пахло там все же обычной мочой.
На прогулках Левка рассказывал мне страшные истории из нашего общего прошлого или нашей необщей жизни. Его оказалась страшней. Он рано потерял чекистов-родителей, долго бедствовал, дрожал от страха, воевал, успел повидать в тыщу раз больше унижений, чем я, тогдашний школьник из уцелевшей семьи. Он рассказывал о них своим милым насмешливым голосом, заклиная меня проявить терпимость и понимание, и все же не очень надеясь, что я, человек из недопуганного поколения, что-нибудь пойму. Потому что я не был на войне, у меня не расстреляли родителей в тридцать седьмом и, главное, я никогда не был членом КПСС… Но все же он старался рассказать мне как можно больше: не уносить же ему было все это с собой Туда. Притом я так шалел от всех этих историй: какой рассказчик избежит соблазна ошеломить признаньями?
– Завтра ко мне приедет из Москвы в гости Оська из «Канонады» , – сказал он мне в одну из последних встреч, – Да ты же помнишь Оську. Он потом был в журнале «Юность». У него тоже всех расстреляли до войны. Мы с ним дружили. Но между прочим, на него я тоже стучал. А что поделаешь? Мне велели. Такое было время. А я был член партии.Сказали, и все. Вот так, мой дорогой…
Левушка качал головой, смотрел на меня ласково и, сдается, удовлетворен был степенью моего испуга.
(Помню, что с таким же удовольствием раскрывала мне глаза на прошлое своего знаменитого мужа Мария Васильевна Синявская. Тогда еще живого. Впрочем, уже полуживого:
– Да отчего вы не верите? Он же сам это написал о себе в романе «Спокойной ночи!» . Тогда все стучали. Абсолютно все.
– Так уж и все…)
Милая Левина дочь-художница позвонила мне в Шампань из Тель-Авива. Сказала, что вот, папы больше нет…
Да и Марию Васильевну Олсуфьеву я больше не видел. Ее уже не было в живых, когда я снова приехал в Италию. И Пети Вегина больше нет, ни в Москве, ни в Ростове, ни в Лос-Анжелесе. Много было такого, о чем я не успел им сказать. О чем не успел расспросить. Теперь уж, наверно, не спросишь. Впрочем, я не знаю этого наверняка. Кто я такой чтоб знать?
Иногда я вспоминал Марию Олсуфьеву в связи с их «Олсуфьевским домом». Приходил я в ЦДЛ за какими ни то справками,когда бывал дома, в Москве, в перерыве между своими бесконечными путешествиями по Средней Азии. Или даже позднее, когда приезжал из Франции… Приходил, поднимался в Московское отделение к милой секретарше Иннесочке. Она уже не была так ослепительно прелестна, как раньше, но была все так же добра. Вася Аксенов в одном из американских романов драматически сообщил, что его легко узнаваемая героиня-секретарша оказалась связанной с «людьми Оттуда». Ну а с кем ей было быть связанной, как не со своим непосредственным начальником, «рабочим секретарем», который был всегда Оттуда. С тем же знаменитым Ильиным, которому ностальги-ческий летописец «спецопераций» генерал Судоплатов посвятил в своей книге отдельную главу. Иннесочка вкладывала душу в отношения с бедненькими «погорельцами» (ее собственный отец был тоже расстрелян вскоре после ее рождения), а «рабочее руководство Союза», снимало навар с добрых дел. Старея , бедняжка Иннесочка стала изрядно закладывать, прямо тут, на работе, в секретарском скворечнике дома литераторов. Забегая за справками или за командировкой в Союз писателей, я пo-прежнему обедал в рублевом ресторане со стенописями в стиле нашей с Ларским «Канонады» или журнала «Крокодил». Это были как бы дружеские шаржи со стишатами, тот же бессменный обеденный пиар: «сегодня, ев тушенку, вспоминал про Евтушенку» (говорят, «пестрый зал» со стихами про тушенку еще цел, непременно загляните!) .
В Каминном зале обедать было для меня, как правило, слишком долго и слишком дорого. Вдобавок я не всегда был справедлив к официантам, этим любимым героям-труженикам сильно пьющего Гемингвея. Готов признать, что был неправ. Просто меня, непьющего, смущала ресторанная публика. Проходя через Каминный зал, я видел какие-то по большей части незнакомые лица. Иногда, впрочем, мелькали шапочно знакомые переводчики с зарубежными нахлебниками или какие-то иногородние писатели, вроде питерских запевал из «волшебного хора». Позднее толковая мемуарная сага чекиста Судоплатова поведала читающей публике еще об одной категории гостей Каминного зала: выйдя на пенсию (а иногда и проведя сколько-то лет за решеткой), былые разведчики становились переводчиками с не слишком дефицитных языков, вроде словацкого или белорусского, и регулярно посещали олсуфьевский дом. Что до супруги самого мемуариста , подполковницы все тех же органов, то о ней он сообщает с трогательной нежностью, что она по долгу службы вербовала в олсуфьевском доме «информаторов среди писателей» и писатели ее за это «очень любили».
Приехав однажды из Франции уже в «перестроечную» пору, я проходил как-то через полупустой Каминный зал ресторана и вспомнил, что с утра ничего не ел. Сел за столик. Официант тут же подошел, очень вежливый, с улыбкой: «Что будем пить?»
– Вот тут рыбный суп в меню…- сказал я склочно , – Только цена непонятная: «15 у.е.» Что это значит по-русски?
Он усмехнулся снисходительно:
– По-русски это значит пятнадцать долларов.
Как раз сумма моей тогдашней месячной пенсии была, всей без остатка.
– Не слабо, сказал я и пошел к выходу.
Он догнал меня вполне спортивно.
– Водичку я вам уже открыл, – сказал он, – С вас пять у.e.
– Приклятая забывчивость, – признал я.
Позднее и в «рублевой» писательской столовке, и внизу, в подвале, тоже завелись крутые рестораны , а какой-то новый ресторан «Фаэтон» открылся во дворе былого «дома Ростовых» (на самом деле, это был дом Долгоруковых, где после революции ютилась ЧК, потом жил тов. Луначарский, еще позднее функционировал институт тов. Брюсова, а уж позднее гнездился Союз писателей) .
С разгулом московского «дикого Запада» те из писателей, у которых была не просто торговая жилка, а достойная жила, занялись вплотную всей этой ценной жилплощадью. Возникло какое-то «Всемирное сообщество писательских союзов» во главе с автором двух гимнов, патриархом С.В. Михалковым, пошла бойкая распродажа не каких-нибудь там духовных ценностей (вроде «нас вырастил Сталин на верность народу»), а самых востребованных – жилищных. Если верить московской прессе, С. Михалков и продал уютный уголок олсуфьевского дома, где размещался престижный журнал «Дружба народов», какой-то фирме, представлявшей интересы главного вора нашей родины. Вора не в каком-то там переносном или отрицательном смысле (хотя и не в положительном тоже): просто титул этого человека (одного из грозных повелителей новой России) был «вор в законе» или даже «король воров в законе». Была у него и популярная кликуха – “дед Хасан», а скромную его армянскую фамилию употребляли так же редко, как, скажем, фамилию уголовника Джугашвили, которого чаще называли Коба, Гуталин, любимый вождь, лучший друг детей, хозяин, гений языкознания…
То, что главный вор страны водворился в олсуфьевском подворье и даже убит был в непосредственной близости от дома , как и в том, что профессиональные воры и киллеры зачастили в этот дом вслед за отставными киллерами – это в который уж раз продемонстрировало ту особую роль, которую суждено было сыграть славному дому Олсуфьевых в современной российской истории. И похоже, что роль эта становится все ярче, заметней. Если раньше великих людей вносили в этот дом уже бездыханными, чтобы отдать им последние почести, то теперь великих людей стали убивать прямо тут, на месте, в крайнем случае во дворе. Ведь именно там и был убит снайпером (с крыши того самого дома, где жили некогда мой друг Боря Золотухин и гимнописец Сергей Михалков) главный и законный вор нашей державы «дед Хасан». Внимательно следите за этим местом , чтоб не пропустить событий, как ныне выражаются, знаковых…
Об Авторе: Борис Носик
Борис Михайлович Носик (10 марта 1931, Москва, СССР — 21 февраля 2015, Ницца, Франция) - известный русский писатель. Окончил факультет журналистики МГУ и Институт иностранных языков. Наиболее известные произведения писателя — биографические: книга «Альберт Швейцер», в серии «Жизнь замечательных людей» (Москва, 1971) была восемь раз переиздана на немецком языке, «Мир и Дар Владимира Набокова». Писал также рассказы, пьесы («Ваше мнение доктор?») и повести. В советское время наряду с официальными произведениями много писал «в стол» (знаменитая повесть «Коктебель»). Занимался также переводами, в том числе «Пнин» В. В. Набокова. В настоящее время проживает в Париже.

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы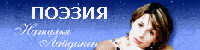 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

