ГЕОРГИЙ ИВАНОВ ● НЕВЕСТА ИЗ ТУМАНА ● РАССКАЗ
Он застрелился накануне дня своего рождения: ему исполнилось бы тридцать четыре года. Отличный возраст для художника, которому улыбнулась слава. Кишечник еще неокончательно атрофировался после долгой и жестокой голодовки на прославленном Монпарнасе, и легкие, прокопченные и подгнившие на грязных сырых чердаках, можно еще отмыть и укрепить где-нибудь в Савойе или Пиренеях голубым льдом сияющего горного воздуха.
Признание пришло к Александрову вовремя. Двух месяцев не понадобилось, чтобы из бледного, долговязого, робкого малого в провансальском берете и жалком непромокаемом пальто, озирающего на углу бульвара Распай голодными и жадными глазами каждый вечер одну и ту же картину скользящей мимо такой близкой и такой недоступной жизни (иностранцы, автомобили, огни баров, лотки с устрицами, занавешенные шелком окна, сквозь которые брызжет негритянская музыка и где сосредоточено все – женщины, деньги, еда, английские папиросы, калорифер, фантастический вкус никогда еще не пробованного шампанского), превратиться в довольно самоуверенного молодого «мэтра» в дорогом ловком костюме и галстуке с бульвара Мадлен.
Он вернулся из Швейцарии, куда уезжал отдыхать и лечиться на первые, свалившиеся так неожиданно деньги, – совсем другим человеком. Не только легкие и желудок окрепли у подножья Монблана – окрепла и выросла, казалось, и его душа. Несколько этюдов, привезенных в Париж и неохотно показываемых, убедили самых взыскательных знатоков, что заезжий американский меценат, «открывший» безызвестного русского художника, не только не ошибся в нем, но, напротив, пожалуй, недостаточно его оценил. Американец купил и увез в Бостон в свой дворец, полный Матиссами и Утрильо, десяток полотен очень талантливого начинающего – теперь в комнате большого отеля на красном ковре, столах и широких кожаных креслах были разложены работы, в которых явственно проступали черты огромного, почти зрелого дарования. Трое главных торговцев картинами с рю де-ла-Боэси, трое диктаторов спроса и предложения в мире красок, при свете электричества (был декабрь, желтый туман плотно стоял у окон, и Париж напоминал Лондон) разглядывали эти рисунки, щупали их, подносили их к носу, и каждый соображал, какой ежемесячный фикс предложит художнику, чтобы право эксплуатировать этот удивительный талант осталось за ним, а не за конкурентами. Александров стоял в стороне, прихлебывая портвейн, грыз зажаренную тонкими лепестками картошку и спокойно ждал (за время обеспеченной жизни он научился спокойствию), когда они приступят к торгу. Он знал, что самый азартный из трех – Дюран—предложит, вероятно, больше других, но что Леконт – лучшая марка и более надежные руки, и, пожалуй, вернее подписать контракт с Леконтом. Надо быть осторожным и благоразумным – и этому тоже тепло, отдых и текущий счет в базельском банке успели его научить. Выгодный контракт был подписан. На июнь по условию с импресарио была назначена выставка картин Александрова – тех картин, которые он должен был написать за зиму. Он снял студию и стал работать. Так, по крайней мере, думали все, так говорил он сам, изредка показываясь в «Куполе» или «Ротонде» на зависть менее удачливым приятелям. Впрочем, показывался он там только первое время. Вскоре его длинна» фигура в толстом верблюжьем пальто совсем исчезла с Монпарнаса.
Александров к себе никого не приглашал, чужие приглашения отклонял, и в богеме скоро решили, что он загордился, завел более элегантные знакомства, жалеет те десяти и двадцатифранковки, которые неизменно теперь у него спрашивал при встрече каждый голодный и бездомный член бесчисленного монпарнасского братства. Добродушно обозвав Александрова «Salaud»[1], богема забыла о нем тем условным забвением, каким забывают художника или писателя: до новой книги или очередной выставки. Но поязвить и покритиковать на выставке Александрова обиженным завсегдатаям художественных кафе не пришлось. В конце марта велосипедисты-полицейские, объезжая на рассвете Булонский лес, нашли его лежащим ничком на берегу озера, у самой воды. Тут же валялся браунинг. Пуля прошла сердце навылет.
* * *
Александров покончил с собой в 1926 году. Странный же документ, проливающий на это самоубийство неясно-жуткий свет, был обнаружен три года спустя совершенно случайно. Александров – беженец с Кубани – был человеком одиноким. Наследником всех его художественных работ стал, естественно, тот самый мосье Леконт, с которым у художника был пятилетний контракт, прерванный непредусмотренным форсмажором – выстрелом в сердце. Вместе с картинами и рисунками к Леконту, за неимением у Александрова родственников, перешли и его вещи. Вернее, аккуратный француз попросту забрал их в автомобиль, на котором увозил картины, рассудив, что вещи покойного художника справедливей раздарить его неимущим друзьям, чем оставить швейцарихе в виде баснословного посмертного «на чай». Он так и поступил. Когда в его бюро являлся какой-нибудь художественный попрошайка, Леконт дарил ему то костюм, то новенькую фетровую шляпу, то смену щегольского белья из довольно большого гардероба, заведенного Александровым в то время, когда «главного он еще не понимал», как сказано в его дневнике. Этот дневник был подарен Леконтом некоему П., явившемуся к нему за своей долей наследства последним и не заставшему уже ни широких гольфных штанов, ни отличных шелковых рубашек – только пакет с книгами.
– Вот тут архив вашего камрада – больше у меня ничего нет, продайте букинисту, – сунул ему Леконт в руки объемистую пачку и выпроводил посетителя.
В нескольких листках синей шероховатой бумаги, которая зовется Энгр и служит для рисования белилами и сангиной, были завернуты: самоучитель английского языка, два-три романа, кипа художественных журналов, руководство хорошего тона, составленное знаменитым Полем Ребу, и холщовая тетрадь для эскизов, исписанная то пером, то карандашом.
* * *
«Новость: я веду дневник. Никогда прежде не чувствовал потребности в этом. Да и что было записывать? Неудачи, бедность, горе… Только неудачи, бедность и горе были моей жизнью. «Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастна по- своему». Может быть. Не мне спорить с Толстым. Но мне кажется, что с отдельными человеческими жизнями дело обстоит как раз наоборот. Несчастье всегда одинаково: неудачи, бедность, горе. А каждая счастливая жизнь счастлива на свой особенный лад. Этим дневником я открываю свою счастливую жизнь.
Моя новая счастливая жизнь. Ей уже около двух недель, но только сегодня утром, выглянув из окна спального вагона на снег и Альпы, я понял, что она началась. Снег. Я смотрел на него новыми глазами, глазами счастливого человека. Он уже не пугал меня холодом, отсутствием угля, жалким летним пальто. Снег значил – лыжи, радостное возбуждение, огромный отель в горах, дорогой спортивный костюм. Счастье – прежде всего – свобода. Свобода – прежде всего – деньги. Денег у меня сейчас много. Даже слишком много – ведь я совсем не умею их тратить.
И свободы тоже слишком много – еще неизвестно, что буду делать с ней. Но жаловаться на это не приходится. Напротив. Было бы, например, очень некстати тащить сейчас за собой в новую счастливую жизнь какую-нибудь набившую оскомину любовницу, тащить только потому, что она жила со мной на одном чердаке и штопала мои драные носки. Хвалю себя, что всегда был Волком-одиночкой, как прозвали меня на Монпарнасе. Если бы такая, оставшаяся от старого женщина у меня была, я бы, конечно, ее бросил вместе с носками и чердаком. Но это подлость, а с подлости новую жизнь нехорошо начинать».
Дальше шло описание фешенебельного горного курорта, несколько слов о мимолетной связи с американкой Патрицией – «как смешно – Патриция, а сама похожа на хорошенького котенка, даже мурлычет», легкой связи с легким расставаньем, «дарлинг, дарлинг, дарлинг, – навеки», потом поцелуи, смех и цветы на перроне. Возвращение в Париж. «Контракт подписан. Кто мог думать – у меня коммерческие способности, Леконт только вздыхал». Потом переезд в новую студию – большую, светлую, с ванной, столовой и спальней – «целая квартира».
«Окно студии выходит в стилизованный парижский садик, и напротив, совсем близко, окна чужого особняка. Только два окна – особняк выходит в сад боковой пристройкой, и они прямо на уровне моего, смотрят в него, как два глаза. Не совсем приятно – так близко чья-то чужая жизнь. Впрочем, на окнах тюлевые занавески, да вообще можно туда не смотреть.
…Утром уже рисовал, но немного – больше устраивался. Переставлял кресло, просто так, для удовольствия. Безделье. Но это творческое безделье. Чувствую, что буду писать много и хорошо, хорошо, как никогда. Весь Париж должен ахнуть в июне на моей выставке. И ахнет. Брал ванну днем — приятно, но глупо, можно простудиться. Потом поехал завтракать в шикарный ресторан. Ел бифштекс и компот – доктор велел щадить желудок. Но над бифштексом реяли все омары и фазаны, которые я теперь могу заказать.
И от этого все показалось особенно вкусным. Взял бутылку шампанского. Выпил только один бокал – вредно, но произвел неотразимое впечатление на лакеев. Кланялись, как принцу Уэльскому. Приятно. Возвращался пешком. Какой туман! Совсем Лондон, как его описывают. Все таинственно расплывается, все очертания двоятся. Я немного заблудился, завернул не на мою улицу, а на параллельную… Да это лицевой фасад особняка, два окна которого смотрят прямо в мою студию. Красивое старинное здание, над воротами какой-то затейливый герб. Взглянул и хотел пройти, но тут из тумана вынырнул автомобиль и остановился у подъезда. Шофер, соскочив, открыл дверцу, и из автомобиля вышли новобрачные. Я остановился – нельзя же перебегать, как кошка, дорогу молодоженам. Кружево, шелк, ворох белых лилий… Невеста повернула голову, и я увидел ее лицо. Оно поразило меня. Оно было необыкновенно счастливо, неслыханно счастливо. Большие, светлые, прозрачные глаза смотрели куда-то поверх всего, маленький, очень красный рот улыбался. Но это не был взгляд, не была улыбка – это было само счастье. Счастье слишком явное, слишком большое, слишком глубокое для этих прозрачных глаз, красных губ, тонких бледных рук. Какое-то исключительное, нечеловеческое, даже бесчеловечное счастье. В нем было что-то жестокое, почти грубое, почти оскорбительное. И я на минуту, в самом деле, почувствовал себя оскорбленным. Как будто она, эта невеста, забрала себе одной все земное счастье. Как будто она обокрала весь мир, и меня в том числе.
Швейцар распахнул двери особняка, и она, эта слишком воздушная, слишком земная, слишком счастливая новобрачная, вошла в подъезд. За ней промелькнул «он» – высокий, худощавый, банально-элегантный в жакете и с цилиндром в руке. Дверь закрылась. Мне стало холодно. Я почувствовал во рту вкус ржавчины и светильного газа – вкус тумана. Противно. Завернул за угол и оказался перед своим домом.
Дома что-то читал и перебирал старые наброски. Скучно. Глупое чувство обездоленности, которое я испытал на улице, не хочет проходить. Глупо и смешно. Какое мне дело, что какая-то чувственная девчонка до неприличия влюблена? При чем тут я? Она прелестна? Но прелестных женщин в Париже сколько угодно, Патриция была ничуть не хуже. А это сиянье чувственности даже отталкивает меня. Боюсь и не хочу. Прежде всего, я должен быть свободен. Прежде всего, искусство. Но на меня действует туман.
Впервые за эти два месяца я недоволен собой. И студия моя не кажется мне такой замечательной, как вчера. Стены следовало выкрасить на полтона темней, в более глубокий серый цвет. И кресла слишком мягки и буржуазно-роскошны. Впрочем, вздор – все очень хорошо».
* * *
«Сегодня солнечный, розоватый день. Работал, но неудачно. Соседние окна раздражают и отвлекают внимание. Четыре часа дня, но занавески еще затянуты. Раньше их раздвигали с утра – я несколько раз видел лакея в полосатой куртке, который это делал. Может быть, там теперь спальня новобрачных. Тогда понятно –такая чувственная.
Обедал с Леконтом. Пройдоха. Льстит – шер мэтр, вы завоюете мир. Без него знаю. Пристает, чтобы показать ему новые картины, едва отделался. По крайней мере скажите, сhег А1ехаndroff[2], много ли вы написали—ведь выставка не за горами. – Двенадцать полотен. – Расплылся в улыбку. – Са s’est bien[3]. Откровенно говоря, полотен даже больше двенадцати, но только чистых. На мольберте у меня стоит все тот же начатый холст, и я никак не соберусь его кончить. Надо подтянуться. Занавески так и остались спущенными весь день. Когда я вернулся вечером, за ними светился огонь, должно быть, от ночника – слабый, мутный, розовый, какой-то липкий. Что он освещает сейчас, этот мутный розовый свет? Но какое мне дело? Гораздо полезней обдумать, как провести волнистую линию, которая мне не дается на моей картине. Если живописна плоскость…». Далее следуют технические рассуждения.
* * *
«Сегодня в половине первого один из пышных тюлевых воланов задвигался, и я увидел невесту. Я хорошо разглядел ее. На ней было что-то легкое, белое, вроде ночной рубашки. Она глядела в сад и в мое окно тем же расширенным, невидящим счастливым взглядом. И она улыбалась так же счастливо. Нет – еще более счастливо, уже не улыбкой – гримасой счастья. Счастья, ненасытности и усталости.
Она стояла, прижавшись лбом к стеклу, будто отдыхая, будто собираясь с силами. За ней в глубине комнаты смутно белела широкая низкая кровать. Так она стояла минуту, может быть, две. Потом вдруг обернулась, протягивая кому-то руки. Занавески снова упали.
Все то же. Занавески опущены. Неужели она так никогда и не встает, не выходит гулять, не одевается? Чувствую, что во мне проснулась душа добродетельной старой девы. Я возмущен. Я готов кричать: с’est honteux![4] Я способен обратиться к полиции, чтобы прекратили это безобразие, порок и порчу нравов. Но шутки в сторону – меня это действительно раздражает. Чем? Что какая-то девчонка и какой-то рослый болван пять дней не встают с кровати. Так что ж? На здоровье, хоть месяц, если им нравится. А вот поди же. Меня это злит, бесит, лишает покоя. Я повседневно думаю только об этом.
Она опять раздвигала занавеску. Опять в рубашке, волосы растрепанные и глаза шалые. И опять это невозможное, звериное выражение счастья. День солнечный, яркий, но она сквозь тюль видна, как в тумане. Как в первый раз, когда она шла в фате и кружевах, с белыми лилиями, с этим пленительным и отталкивающим взглядом. Словно туман того дня не рассеялся и сгустился там, в той комнате, вокруг нее – и она в нем живет. Она подняла руку. Рубашка соскользнула с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно над левой грудью. Я смотрел на нее в бинокль, она должна была меня прекрасно видеть, – но не шевельнулась. Не поправила рубашки, не отвернулась даже – бесстыжая девчонка. Нет. Она не видела меня, ничего не видела – это ясно. Она отравлена любовью, и ничто другое не существует для нее. Я почувствовал ненависть к ней, ярость. Мне хотелось разбить окно и бросить в нее биноклем, поднять… скандал. Сделать что угодно, только бы эти светлые, прозрачные, невидящие глаза взглянули на меня сознательно, чтобы они увидели меня. («Увидели» было подчеркнуто).
Что со мной? На что я злюсь? Какое мне дело? Разве я не прежний, счастливый, свободный Волк-одиночка? Разве мне надо что-нибудь, кроме славы, денег и свободы? Надо работать, вот что».
* * *
«Вчера она уехала. Это странно, почти страшно. Не то, что она уехала, а то, что ее отъезд так взволновал меня.
Утром, впервые за все эти дни, занавески широко откинулись. Видел лакея, суетящегося в комнате. Вдруг к окну подошла она в шубке и маленькой белой шапочке. За ней муж. Она обняла его за шею и поцеловала долгим, невозможно долгим поцелуем. Точно не нацеловалась за эти дни. Они отошли от окна, и больше я ее не видел.
Занавески остались поднятыми и даже на ночь не опускались. И на следующий день тоже. Тогда я понял, что она уехала. Зачем? Не все ли ей равно, где целоваться – в Париже, в Ницце или Каире?
Сначала я обрадовался. Унесла нелегкая, не будет мешать мне работать. Сколько дней я баклушничал из-за нее, будто это я женился, будто это мой медовый месяц. С наслаждением я принял ванну, побрился, причесался, с наслаждением раскрыл ящик с красками и взял палитру. Но ничего не вышло. Все расплывается мутными пятнами, и вместо того, чтобы смотреть на картину, я все оборачивался на ее окна. Тревога все сильнее меня грызла. Наконец я замазал все, что нарисовал. Дома сидеть я не мог. Квартира моя вдруг опротивела мне. Будто я жил здесь с невестой и она уехала, бросила меня. Я прислонился к стеклу лбом (так стояла она несколько дней назад), и вдруг у меня защекотало в горле. Я всегда был сдержан, а, видит Бог, у меня в жизни было достаточно поводов для слез.
На дворе шел дождь. Капли дождя стекали по стеклу. Я поднял руку и коснулся щеки. Она была мокра. Сначала я подумал, что это тоже дождь. Потом, когда я сообразил, что плачу, я испугался. Что же это? Где моя слава, свобода, счастье?
Пойду на Монмартр. Напьюсь. Говорят – помогает».
* * *
«Голова болит. Но напиться вчера не пришлось. Вышло иное. Дико и непонятно.
Я пообедал один. Выпил бутылку вина и съел омара по-американски, не думая о желудке. Пока ел, было ничего, но потом стало еще тревожнее. Я вышел на площадь. Давно я не был здесь. Шумно, людно, отвратительно. Я зашел в большое кафе. Мне было холодно. Я сел за свободный столик и, сняв перчатки, потер озябшие руки.
– Вам холодно? – спросил немного гортанный голос.
– Выпейте грогу. И мне закажите – мне тоже холодно.
Я повернул голову и увидел прозрачные глаза, маленький красный рот, светлые волосы. Это была она, невеста. Ее глаза. Ее волосы. Ее руки. Только выражение лица было совсем другое – грустное и немного испуганное.
– И мне, – повторила она. – Или не хотите? Скупой?
Я заказал два грога, и она улыбнулась.
– Мне надоело сидеть, – сказала она, выпив. – Хочешь, пойдем?
Не было сомнений, кто она и чего хочет, но она была совсем непохожа на остальных женщин. Она казалась молодой, наивной и робкой.
– Пойдем ко мне, – предложил я.
– А где это?
Я назвал улицу.
– Ах, нет-нет, – замотала она головой. – Ах, нет. Туда не хочу. Я знаю здесь очень хороший отель. Очень хороший, – с убеждением повторила она. – И недорого.
Снова я шел по площади. Но теперь все вокруг казалось мне таинственным, волшебным, сказочным, как в детстве на Рождество. Фонари и огни реклам сияли, как свечи на елках, и сердце мое дрожало и падало. Я крепко держал ее за локоть.
Сонный лакей повел нас по узкой лестнице, отпер дверь.
– Вам тут будет хорошо, – сказал он. Меня поразила эта фраза. Откуда он знал, что мне будет хорошо?
Комната была жалкая. Большая кровать, умывальник, лампочка под низким потолком. Она сняла шляпу и пальто. Я смотрел на нее. Я ни о чем не спрашивал. Я был совершенно спокоен. Вся тревога моя прошла. Как будто именно этого я и ждал.
Она тоже молчала.
– Как красиво, – сказала она наконец, показывая на пестрые обои. – Птицы и цветы. Я люблю весну. Но и осень я тоже люблю. Дождь и туман. Потуши свет.
– Зачем?
Она прижалась щекой к моему плечу:
– Потуши, потуши. Я иначе не могу. Мне стыдно раздеваться.
– Разве ты не привыкла?
– Нет-нет. Я люблю тебя. Мне страшно, как будто я твоя невеста.
Невеста!
Потом снова свет ярко горел – кто его зажег, я или она? Я видел ее лицо: оно сияло счастьем. Оно было самим счастьем. Это искаженное счастьем лицо, эти прозрачные шалые глаза. Рубашка сползла с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно. Больше ничего не помню. На рассвете я проснулся один».
«Три дня напрасно ищу ее. Нигде ее нет. Расспрашивал проституток и лакеев в кафе – никто ее не знает. Искал тот отель, где мы провели ночь. Не нашел – столько улочек, и в каждой десяток отелей. Очень устал. Несчастен. Никогда еще не был так несчастен. Ее нигде нет».
* * *
«Ее нет нигде».
* * *
«Прошло две недели с той ночи».
* * *
«Как я глуп! Искал ее по всему Парижу, а она тут, рядом. Занавески опущены – значит, она дома. Может быть, она вернулась в ту же ночь – ведь я ни разу не взглянул на ее окна. Сейчас же иду к ней.
Был там. Невероятно. Невозможно. Чудовищно. Булонский лес? Да, конечно, в Булонский лес. Шум деревьев поможет собраться мне с мыслями. Я всегда любил деревья. Я рисовал их. Мне казалось, что в их свежей листве сосредоточена вся свежесть мира.
Уже утро. Над озерами утренний туман. Я первый раз увидел ее в тумане…».
* * *
Долго волновались на Монпарнасе. Много кофе и пива было выпито, много папирос выкурено, пока пришли к решению: пойти в тот особняк, добраться до женщины, погубившей Александрова.
Предприятие казалось трудным, почти невыполнимым. Она не примет художников, не пожелает с ними говорить.
Но все оказалось очень просто. Седой лакей впустил их и пошел доложить хозяйке. Минут десять спустя в гостиную вышла худощавая дряхлая маленькая старушка в широком шумном шелковом платье. За нею бежала болонка. Старушка грациозно опустилась в кресло и предложила всем сесть.
– Чем я обязана честью?.. – слегка жеманно спросила она.
П., краснея и сбиваясь, стал говорить про молодую женщину, «живущую или жившую тут три года назад». Старушка перебила его:
– Никакой молодой женщины, мосье, здесь не живет и не жило с тех пор, как я сама перестала быть молодой. Но это было очень давно. И вся прислуга у меня мужская, кроме старой камеристки.
П. все еще настаивал.
– Новобрачные, окна выходят в сад…
Старушка покачала головой.
– Вы заблуждаетесь, мосье. Но я вспоминаю, что не вы первый меня об этом спрашиваете. Года три-четыре тому назад ко мне приходил неизвестный, очень странный молодой человек и что-то кричал о невесте, и плакал, и умолял меня. Мне стало его жаль, и я провела его в комнату, выходящую в сад. Вам я тоже могу ее показать.
Комната была большая. Это был старомодно обставленный кабинет. Мебель была тяжелая, резная, на стене среди ружей и пистолетов, висел портрет бравого гвардейца в траурной раме, У одного из окон стояла огромная клетка с канарейками.
С тех пор как мой бедный муж был убит под Седаном, ничего не изменилось здесь. Только канареек приходится заводить новых – они так недолговечны. Но мой покойный муж их очень любил.
1933
[1] «Негодяй» (фр.).
[2] дорогой Александров (фр.).
[3] Это хорошо (фр.)
[4] какой позор! (фр.).
Об Авторе: Георгий Иванов
Георгий Владимирович Иванов (1894-1958), поэт, прозаик, литературный критик, родился 29 октября в Ковенской губернии в семье гвардейского офицера. Мать – Вера Бир-Брау-Брауэр ван Бренштейн, урожденная баронесса. Начальное образование получил на дому. Cемья жила в имении Студенки, но вскоре переехала в Петербург. Георгий поступает во Второй кадетский корпус. Первая поэтическая публикация вышла в 1910 году в журнале «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности». В декабре 1911 года вышел первый сборник стихов «Отплытье на о. Цитеру». В 1912 году был принят в Цех поэтов. 1913 год – публикация в журнале «Аполлон». В феврале 1921 года был избран секретарем Союза поэтов. В 1922 году уезжает в Германию; в 1923 году вместе с женой Ириной Одоевцевой переезжает в Париж. В 1924 году в газете «Звено» начинает печатать серию очерков «Китайские тени». В 1927 участвует в обществе «Зеленая лампа», являясь его бессменным председателем. Печатается в различных изданиях («Новый дом», «Числа», «Круг» и др.), став к тому времени одним из крупнейших поэтов русской эмиграции. В начале 1931 выходит сборник стихов «Розы». В годы эмиграции выступает как прозаик: мемуары «Петербургские зимы» (1928, Париж), «Третий Рим» (1929, незаконченный роман). В 1938 году в Париже выходит лирическая проза «Распад атома». В 1939 году переезжает в Биарриц, где живет до 1946 года. В 1946 году переезжает в Париж. В начале 1955 году покидает Париж и переезжает в г. Йер. Умер в этом же городе 27 августа 1958 года в старческом доме. Сборники стихов: «Отплытье на о. Цитеру» (1911), «Горница» (1914), «Памятник славы» (1915), «Вереск» (1916), «Сады» (1921), «Лампада» (1922)», «Портрет без сходства» (1950), «1943 – 1958. Стихи» (1958).

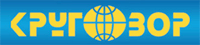 Журнал «Кругозор»
Журнал «Кругозор» Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы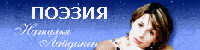 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

