ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ ● В КОКОНЕ ТИШИНЫ ● СТИХИ
 Бабочка-махаон спит в световом кружке
Бабочка-махаон спит в световом кружке
ночника (бронза, модерн, лианы, жуки);
в верхнем левом углу паук в своём гамаке
таращится и следит за движеньем моей руки.
Бледный, но как-то живой свет ночника,
в граненном графине помигивает коньячок;
где-то пробило двенадцать, а ночь никак
не начнётся, разве качнётся, как паучок,
переместившись крабом – зрячая тишина –
в сторону, что ли, восхода (а где здесь восток?);
и на бумаге каракули, а не письмена,
текут себе: справа устье, слева исток.
Какая-то жизнь затаилась в буквицах тех,
дай Бог, чтоб не напрасна и не подла;
что же, автор охоч до иных утех;
в углу, как балалайка, стоит метла.
Бабочка потянулась во сне, её
привлёк аромат коньячный, должно быть; он –
лоза на спирту, резковат, а цветом – йод;
астенический сыр потеет, свирепеет бекон.
Жизнь истекает из этих каракулей; мы,
слава Богу, не немы; насчет же письма –
там более опыта, нежели врак, взаймы
взятых у всех ночей, погляди сама.
И это не медитация и не диктант
свыше, как многие лгут, не автописьмо –
что-то сродни говоренью вообще: педант
этого не полюбит, дурак не поймет; а само
оно – в письменном виде устный расклад,
так можно говорить с морем или с котом;
пусть – глоссолалия, кто-то же этому рад,
а запомнится ли – разберёмся потом.
Как «знаменитой Федры» – мне не увидать
последствий, уже окончательных, но и теперь,
если эхо доносит отклик – печать
сама отпадает, и дует в прикрытую дверь.
Ночь,как переводная картинка под
пальцем, теперь проступает, бормочет сверчок;
у бабочки сплошь гобелен, а не испод
крыльев, и в небесах безлунных – молчок.
ПЕС
Собака, слышишь, не ходи за мной,
уже не говоря – не пей из лужи.
Вон, видишь, мхи синеют под стеной
и кот сидит, тобой не обнаружен.
Иди, собака, в даль, вдыхая злой
и мусорный сквозняк, чешась дорогой;
подпалины – как шуба под золой,
глаза – как будто повидали Бога.
Хороший пес, ушедший от людей.
Темнеет, осень крадется забором,
не оставляя тени; и в воде
зияет шина, как людское горе.
***
Запоминая литеры и знаки –
набор примет, ища себе опору
в разрозненном небесном зодиаке,
что мне не виден весь об эту пору,
я сопоставил только пару дат и
сплелась канва, и завилась жгутом:
погудка жизни зла и языката,
и прежде – мука, а тоска потом.
Наивна невозможность диалога;
по форме – это вовсе не эклога, –
какая-то семантики берлога,
где все забыто, даже имя Бога.
Запомнили и литеры, и знаки,
заполнили мистические баки
уриной проходимцев от высот,
где все – вранье, и ангел не поет.
РАСТЕНИЯ
На подоконнике и поверх декабрьского дня,
в позах Павловой и Петипа сияют растения,
живущие сами себе, а не для меня,
и способные хоть кого довести до растления.
И ты вот – одна из них, хоть иных кровей:
кровать не застелена, вянут недельные розы,
опадая куда попало, левей, правей,
неопрятно старея, но не меняя позы.
Оранжерея, в которой сойти с ума,
не говоря уже – сочинять триолеты
или думать о смерти…Ты погляди сама,
как – политы тобой и мною отпеты –
они там делают знаки, вьются, молчат!
Балет их на фоне окна и задника снега;
дать бы им кошкиных лап да детских ручат,
и прекратить эту демисезонную негу.
Нет – всепогодную, по выходным и в будни…
Латинские их имена и русские погремухи
произнося твоим голосом, плавным и нудным,
выбросить за окно под вечер, «под мухой».
А ты их все ластишь, мешая скучать в окно:
ни локтя поставить, ни выглянуть, чтобы белело
в сумерках это лицо, потому что она,
как лепесток от розы, – сбежало от тела.
***
Бесцветней серого, невзрачней голубого
и мерзче розового, словом – сразу три
в холодном небе; вот тебе забава,
друг Левитан, возьми и повтори.
В подветренных кустах шуршат листвою
эолы и собаки этих мест,
отряд ОМОНа, схожий с татарвою,
дает круги с зигзагами окрест.
Ученья в парке… А у нас тут пьянка,
и мы их видим, а они нас нет;
профессор, защитившись, хуторянку
наплясывает, выпивши вполне.
Двадцатилетней давности студенты
пируют с аспирантками; зима
им молодость ссужает под проценты
и, с ними заодно, пьяна сама.
В ДОМУ
Ночь в присутствии лампы и быстрой метели,
в коконе тишины, дробящейся на
бормоты и причитания утвари; на неделе
зима закрепилась везде, отовсюду видна.
Тысячу лет тикает кран метрономом,
капает, точно в кумполе точит мегрень;
джинсы и свитера говорят: «Мы дома»,
а сами – как лежбище складок, гарем.
За окнами – под копирку – дома и деревья,
ксерокопии белого с грязным ватным подпалом
на кромках; и, по-хозяйски заботясь о чреве,
собачка в мусорник впала, где и пропала
из виду; а ты-то, а ты, в пеньюаре,
под одеялом верблюжьим, колени прижав
к подбородку, похожая на гитару
с лопнувшей мыслью о счастье; а там – вожжа
поземки под хвост переулку попала; люди
падают, скользят, идут и там и тут,
да бурые листья – кофейные пятна на блюде,
да решетки оград – вполне бесполезный редут.
Все это можно рассматривать как диараму,
либо скопище мелких событий зимы,
всю эту перипатетику, косо и прямо
происходящую; норд просит взаймы
у веста – и оттого везде задувает,
и ветки на белом – твое кружевное белье;
гляди – вода подо льдом, точно листья вайи…
Если желаешь – пусть это будет твое.
Львы толстые сугробов, рильковские бородки
сосулек и беккетовские антре витрин, –
при длинных периодах сих – короткое
дыхание у говорящего; он один,
а слушателей навалом, как снега повсюду:
книги, посуда, иной невидимый хлам…
Если закончить здесь, – я все позабуду,
то, что хотелось сказать мне; и пополам
делит окна свет ночника, и все это сразу –
звуки, цвета, твое присутствие в них
(Господи, дай мне закончить эту вот фразу) –
все это – прусто-прокрустова проза, не стих,
не взирая на признаки-призраки метра и на
привидения снегопада в шалях, чье «ша»,
смешавшись со сквозняком и его окариной,
шепчет в щели единое слово – «душа».
***
Угрюмый цвет земли, поля и косогоры,
какой-то хаты кволая стреха,
мужик, что, выпив, мчится от греха,
и серп блестит на поясе, что голый
металл: гуляют утки по болоту,
вот с ихним «кря»; все это – очень зря;
мужик с серпом пропел высоку ноту.
Мужик тот – я, на практике, в колхозе.
Серп мне доверили, чтоб я его донес
туда, где взял; лужайкой бродят козы,
скрипит алектор и дымит навоз
из-под буренки; это, брат, – колхоз.
Затертый год, студенчество, хмельные
подруги, не дающие по вые
за пятерню в глубоких во стогах;
И дядя Петя ходит в сапогах.
Прошло сто лет, весь гусь пошел на стол,
рождественский заляпан воском пол,
и память о колхозе, словно третий,
подсматривает, в зеркале скользя:
забыть – возможно, но убрать – нельзя…
Луна в окне, в изрядной первой трети.
***
Чужая дача.Слева от меня
синеет дым шашлычный, паровозный
под ветерком, который поменял
норд-ост на вест; на небесах венозный
рисунок ветки; контуры листвы
как бы белеют, словно очертили,
как контур губ, – карандашом; и Вы
туда-сюда в купальнике ходили,
с подносами, тарелками; и я,
когда Вы там, звеня, сервировали,
меж Ваших ног ловил луч солнца, вья
нескромные, лишенные печали
(как у влюбленных),помыслы; садясь,
назойливое солнце грело кошку;
арабскую напоминая вязь,
жил виноград, мерцая понемножку.
Истома, лепра краски на скамье…
В бидоне кошка пряталась от зноя,
польщенная округлой новизною;
так одиночки прячутся в семье.
Ах, кетчуп шашлыков, ах, жар ночей!
Но я был не лазо для этой топки,
оставшись сколь свободен, столь ничей,
шажок в аллейке помня твой торопкий.
Чужая дача, справа от меня…
Но как все повторяемо, ей-Богу!
Сменил и переправу, и коня,
чего ж еще сменить теперь – дорогу?
Да хоть дорогу, родину, погост…
И химия в крови твердит иное.
Докучливое странствие земное,
тень на версту ложится в полный рост.
МЕНУЭТ
Галиматья выяснений – кто первым умрёт
от горя в разлуке, кто звонче отправится в рай
нервного истощенья; строчи,пулемёт
женского монолога, больше вбирай
примеров, метафор, приблизительных тем,
что тропы эти совсем никуда не ведут
из лесу, где, заснув в своей темноте,
слова не аукнутся, лишние там и тут.
Но гневно, но пафосно – воротя наугад
спокойных теперь возражений нестройный ряд;
всё-таки неприятно, что ты есть гад,
и нехорошо вдвойне, что нету назад
отступа; мы добрались до края листа,
если вытянуть руку – как перенос –
новая зашевелится строчка, и та
твоими прянет в бровь, и в глаза, и в нос
словами; но мы спасёмся, зажмурив глаза,
брови подняв и нос прикрывая рукой;
мы спрячемся в ванной,куда просочиться нельзя, –
за шумом душа, – тебе, в душевный покой.
ПИСЬМО К Е.
Вдоль беззубых заборов, босых котов,
вброд перешедших лужу размером с Азию,
не борясь с бореями, в демисезонном пальто,
держа на фонарь невозмутимый азимут;
мимо дощатой церкви (осьмнадцатый век),
а заодно и мимо Танюшки в окошке,
я – с коньяком и бессоницей человек,
забрел в огороды града, в бурьян и кошки.
Бесповоротно; и околоток сей –
выселки дальнего леса с туда тропинкой –
это в заштатной находится полосе,
мне здесь понравилось, можно править поминки
по возвращению к вытертым тряпкой дням,
к маниакальным закатам с лиловым нарывом,
к тем, кто в упор ненавидел меня,
с каким-то картезианским надрывом.
Сниму у Танюшки угол на пару дней,
кончив коньяк, перейду на местное пойло,
и, как камбала, распластаюсь на дне,
каких бы ночей тебе это ни стоило.
***
Довольно грязный небосвод. По-зимнему,
вдоль ветра, в профиль – люди и фасады;
портретов треп, попробуй возрази ему;
жизнь возразила, но ему не надо.
Варшава варит митинг поминательный:
лавровый лист венков, букетов специи;
все люди – в именительном и дательном,
расходятся повспоминать, согреться.
И тротуар общественного траура
оставлен стыть: где розы, где гвоздика;
пустая тара наподобье Тауэра;
в подземке затерялась Эвридика.
Орфей – средь поездов, схвативших заживо
дыхание людское, торсы, плечи…
И по перрону пьяный лях похаживает,
Слезится… Что ты плачешь, человече?
Проспекты, парки, сад в согбенной позе,
локтями порознь – точно на морозе
свело суставы; оспенный фасад,
за рябью снега, все глядит назад,
как будто бы в тоннель, куда унесся
горящий поезд, навалясь на оси.
Вся эта метафизика металла, –
все кадры окон без людей, – влетала
в трубу, как пневматическая почта;
вот хронос окончательного вычета.
Во тьму горизонтального колодца,
глаза раскрыв, летит локомотив,
тоннель трясется и сейчас взорвется,
чтобы раскрыть астральные пути.
Закрыв глаза, он слышать продолжал
подземный свист, сверчка, ночное пламя
планетной плазмы… Так его душа
прощалась с речью рек, с полями,
с земными звездами вверху; он продолжал
улавливать помехи, как локатор:
что слышит смерть, то чуяла душа
на всех волнах эфира и покатых
холмах, чей – что ни взмах, то – шаг
в пространстве, от рассвета до заката.
Январский католический обряд.
Последняя поземка, свечек ряд,
как многоточие во тьме. Горят.
ТЕМА
Прежде, чем мне защелкнуть последний замок,
свистнуть змейкой на сумке, уставив взор
в некую точку прощанья (ишь ты, примолк
кот у дверей), и прежде, чем выметут сор
после моих дней и трудов; прежде, чем
что-то придется сказать забытым вещам,
обоям, лысеющим над диваном – тем,
что отдувался под нами; сказать: «Прощай», –
помнится, я припомнил последние сто
лет, рассованных там и тут,
в виде разрозненных книг, своего пальто,
схожего с самоубийцей в прихожей… Жмут
новые туфли, в висках тоже жмет; дома
не выпускают жильцов так запросто, и
исподволь помогают сойти с ума –
лишь оттого, что пальто в прихожей стоит…
Об Авторе: Валерий Сухарев
Поэт, прозаик, журналист, переводчик. Родился в Одессе в 1967 г. Окончил Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова по специальности «русская филология», параллельно занимался в консерватории по классу академического вокала. С 14-ти лет работает на сцене как рок-музыкант, в данный момент – в группе «Поворот Винта». Стихотворения Валерия Сухарева начали публиковать в городской периодической печати с 1983 года и с тех пор они неоднократно появлялись на страницах украинских и зарубежных газет, журналов, альманахов, а в 2008 году вошли в антологию «Украина. Русская поэзия. ХХ век», изданную в Киеве под редакцией Юрия Каплана, и в Одесскую антологию поэзии «Кайнозойские Сумерки». В этом же, 2008 году, Валерий Сухарев стал лауреатом в турнире поэтов-одесситов на Международном фестивале русской поэзии «Болдинская осень». С 2004 года – член Южнорусского союза писателей, с 2008 года – Конгресса литераторов Украины. Публиковался в коллективном поэтическом сборнике «Современность» (Польша, 1992), альманахах «Новое Русское Слово» (Париж), «Крещатик» (Германия), «Интерпоэзия» (Нью-Йорк), «Меценат и Мир. Одесские страницы» (Москва), «Дерибасовская – Ришельевская» (Одесса), в интернет-журналах «Авророполис», «Великороссъ» и др. В 2000 году у Валерия Сухарева вышел первый авторский сборник стихотворений «Анонимность пространства» (2000), на издание которого дала свое благословение Анастасия Ивановна Цветаева.

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы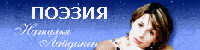 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

