БОРИС НОСИК ● ПЕСНИ И МОЛИТВЫ ГОРНОЛЫЖНИКА*
 ПРЕДИСЛОВИЕ ГОРНОЛЫЖНИКА
ПРЕДИСЛОВИЕ ГОРНОЛЫЖНИКА
По утрам в Чегете я что-то такое сочинял. Какие-то романсы и молитвы. Потом, по дороге на канатку, забегали ко мне чегетские инструкторы – в комнатку украинской биостанции, где я спал, или на ее плоскую крышу, где пытался сочинять прозу. Спрашивали: «Новые есть?» Хозяйски спрятав в шуршащий комбинезон мой единственный экземпляр, обнадеживали: «Mузыка будет к вечеру». Иногда теряли бумажку где-нибудь на горе. Но Влад Чеботарев никогда не терял: он был старший инструктор и мой друг. Со временем я стал провоить месяцы «межсезонья» у братьев Чеботаревых в Крыму. Там тоже писал. Там тоже пели.
В Москве друзья-композиторы сочиняли иногда музыку на мои тексты – бедный Саша Тараненко, почтенный Алмаз Манасыпов, прелестная Анечка Икрамова (добрый отчим Камил привез ей из Франции синтезатор).
Пели эти песни чаще всего в горах, но иногда и в долине. Переводные пела по-русски волшебная полька |Эва Демарчик , анонимно, как водится, пели их в московских театральных спектаклях, а недавно спела русская актриса в польском фильме «Маленькая Россия». Одну, о травке (на музыку Ани Икрамовой) грозилась спеть чудная Камбурова. Может, даже и спела. Что-то спел Сергей Никитин. Но чаще прочих, конечно, пел Влад Чеботарев. Под гитару, в горах. Предприимчивый палаточник Карп даже продавал у нижней станции чегетского подъемника наш «альбом». Это был пик нашей скромной высокогорной славы .
Все свои «серьезные» стихи я давно растерял. Но вот, отправляясь недавно на вечернюю прогулку в лес Дило, что близ нашего хутора в Шампани, прихватил я, как всегда, «уокмэн» и первую попавшую под руку кассету, а войдя в лес, нажал кнопку – и обмер: Владик поет…Отгуляв в лесу прописанное кардиологом время, вышел я на опушку, двинулся к своему хутору через поле пшеницы, ячменя и рапса, а он все пел, пел и пел, Владик. Он пел, а я слушал – про былую безбедную жизнь горнолыжникa. Господи, велика щедрость Твоя…
Домой пришел чуток растревоженный, сел за стол и чуть не все расшифровал с пленки.
МОЛИТВА
О Господи, Твоя разлита благодать
в сосне, горе и белой этой снежности.
А может, и во мне, в моей усталой нежности –
О Господи, Твоя разлита благодать.
О Господи, дела Твои чудны –
И неба твердь, и каждое создание,
И шум лесной, и тайное свидание –
О Господи, дела Твои чудны.
О Господи, Ты славен и всеблаг.
Как высшее Твой день приемлю благо.
В Твоем творенье сложности отвага –
О Господи, Ты славен и всеблаг.
О Господи, Ты добр и милосерд:
Под небом я беспечною мишенью,
Семижды семь умножил прегрешенья –
Но Господи, Ты добр и милосерд.
О Господи, всезнанью Твоему
Так явны все дела мои ночные
И мысли, и движенья потайные –
Всевиденью, всезнанью Твоему…
О Господи, открой Твои пути
Заблудшему в бессмысленном хожденье,
Погрязшему в тоске и наслажденье –
О Господи, открой Свои пути.
О Господи, где грань Добра и Зла?
Опутаны порукою греховной,
Божбою лишней, лаской безлюбовной –
О Господи, где грань Добра и Зла?
ОСЕННИЙ ЛИСТ
Может быть, отчаянны да исты
нам накличут смерть иеговисты.
Может быть, неправедные яйцы
Нам отрежут желтые китайцы…
Все ж однако бурый лист осенний
Мне сулит надежду на спасенье.
Падшая, опавшая листва
Шепчет мне утешные слова.
Говорит: «Все было, было, было
и быльем давно уж поросло.
Все, чем нас гнобили, не сгубило,
все, что нам грозило, пронесло.
И пока пылит твоя дорога,
Не спеши откинуть костыли:
Много городов еще у Бога,
Много неисхоженной земли.
ПОРА ОТЪЕЗДА
Пора отъезда – грустная пора,
Напрасная морока расставанья…
Я вас покину, белая гора,
И неба синь, и снежное блистанье.
Как ни тяни, всему придут конец
и грубость непрощенная ухода.
Глянь – ледниковый светится венец,
И столь нежна кавказская природа.
Как тяжело в такой вот день уйти,
И странствий дух мне нынче неприятен.
Мне суета дорожная претит,
приезд же будет, как всегда, некстати.
Так объясни, зачем же я спешу,
зачем в тоске терзаю расстоянья,
зачем мне эти суета, и шум,
и грустная морока расставанья?
А может, просто должен привыкать
я к грубости последнего ухода?
За тем и марта нынче благодать,
и так нежна кавказская природа.
В КАКОЙ МЫ, ДРУГ, ПОРЕ?
Ночь холодна, и день, как снежный наст,
и все на памяти старик Екклезиаст,
и все на памяти, что каждой вещи – час,
что день родившийся закончится без нас.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Есть время шить и время разрывать,
злодейства время, время врачевать.
Есть время обнимать, и час уйти за дверь,
Есть время поисков, и есть пора потерь.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Есть день любви и ненависти ночь,
пора прихода – и ухода прочь.
Есть время сберегать, и время все бросать,
eсть время сад садить, и время вырывать.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Смеяться время, время слезы лить,
eсть время, чтоб молчать, и время говорить,
разбросанные камни собирать,
родиться время, время умирать.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Мой скуден хлеб, я одинок в труде,
a там где двое – им светлей в беде.
И там, где двое – им теплей в ночи.
Но мы одни, мы мерзнем и молчим.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Все, что по силам, сделай на земле.
Что не успеешь – скроется во мгле.
Мы путь земной проходим только раз –
Так говорил мудрец Екклезиаст.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
ПИСЬМО ИЗ ЛЕНИНГРАДА В ГАСПРУ
Какое холодное лето
у нас в изумрудном раю.
И мы по-ноябрьски одеты
у Духова дня на краю.
И тяжкое серое небо
нависло, как вечный обвал.
Июнь будто сроду здесь не был,
a зной никогда не дневал.
Так влажно полощется ветер,
так мокро свежи тополя…
Мне вспомнилось вдруг, что на свете
eсть южная ваша земля,
где солнцем прогретое море
и пляжа сухие пески
в негромком полночном раздоре
касаются темной руки.
И жизнь, наподобие круга,
замкнулась, как старый недуг:
затем и примчался я с юга,
чтоб снова стремиться на юг,
чтоб снова вкусить перемену,
подставить себя под удар…
Как- будто бы вырвал из плена
свободы довременный дар.
ПЕСНЯ О ЕЛИ
Ты просишь песню спеть о ели.
Как мне украсить песней ель?
Она растет без слов и трелей,
сама себе судьба и цель.
В ней острых игл терпкий запах,
Надменность стройного ствола.
Как много света в колких лапах
oна из мрака принесла!
Зеленоигла и ветвиста,
oна невинна и стара.
Она и сумрачна, и мглиста,
и многоцветна, и пестра.
Она качается приветно
под чуткой тяжестью синиц.
Она мне щурится ответно
зеленомножеством ресниц.
Твой пот янтарный ароматен,
a хвоя хрупкая звонка…
О, ель, мне облик твой приятен.
Мне стать бы елью на века.
СОСНА
Сосна возле третьей опоры,
где домик, и спуск, и бугры,
oтрада несытого взора,
красавица белой поры,
мне тайны твоей не разведать,
рассудком красы не разъять –
свеченье коры твоей медной,
и всю твою гордую стать,
и ласку ветвей, и улыбку,
и хвои чуть слышную дрожь –
когда ты с отвагою гибкой
тот северный склон стережешь.
На этом заброшенном склоне
я встречу тебя и замру,
жемчужина в горной короне,
цветок на морозном ветру…
Пусть вьюга чегетская злится
и путь мой ведет под уклон,
я так же хотел бы продлиться,
последней красой убелен.
Я так же хочу, в полудреме,
сходя к непробудному сну,
стоять на заброшенном склоне,
где вьюга ласкает, сосну.
Мне тайны твоей не разведать,
рассудком красы не разъять.
Позволь хоть пока, до обеда
Мне рядом с тобой постоять.
ПРИТЧИ
Не проворным победа в беге,
и не храбрым победа в бою,
и не мудрым – корзина хлеба,
не разумным злато дают.
Не искусным хвала и милость,
не красивым радость утех…
Все для неба такая малость.
Только случай и время для всех.
Никакой не таи обиды,
не проси никаких щедрот.
подожди – твое солнце выйдет,
погоди – твое время придет.
Не порвалась еще цепочка,
золотая повязка цела,
и на дереве три листочка…
И Господни светлы дела.
А когда, завершив дорогу,
прах твой станет опять чем был,
то душа возвратится к Богу,
и не будет другой судьбы…
Суету сует и томленье
С мудрой горечью, без прикрас,
Описал векам в назиданье
Ветхий старец Екклезиаст.
НИ СЛОВА ПРО ВЕСНУ…
Ни слова про весну – еще морозит
И на канатке руки леденит,
Из-за горы метелью склон заносит,
И лед еще по-прежнему звенит.
Но целый вечер мне певунья-птаха
Пророчит долгожданное тепло.
В лицо метели без тоски и страха
Она кричит, что минуло, прошло…
Что скоро солнце обожжет долину
И расцветит Чегета белизну.
Тогда уж я тебя, мой друг, покину
И в суету надолго окунусь.
Там, ползая весь день по подземелью,
В метро, где мы ни люди ни кроты,
Увижу вдруг за черными тоннелями
Просвет чегетской белой красоты.
Услышу склона тихое шуршанье
И сонное молчание долин
И в толчее московской, опечаленный,
Останусь на мгновение один.
Замрут вокруг скрежещущие звуки,
Чтоб не порвать воспоминанья нить…
Не для того ли нам даны разлуки,
Чтоб брошенное нами оценить?
Не оттого ль мы мечемся по свету
И в завтра мчимся, вовсе не ценя
Ни горы, ни страну и ни планету,
Ни вечер угасающего дня?
Не оттого ль придет воспоминанье
и я замру, догадкой уязвлен,
что без нужды спешил я с расставаньем,
что до поры покинул белый склон?
МЫ СТАРЕЕМ, ДРУЗЬЯ
Мы стареем, друзья, но сперва незаметно,
как идет на сниженье большой самолет:
уж табло зажжено на запрет сигаретный,
но за окнами тот же заоблачный лед.
А потом очень резко, до ужаса круто,
как снижается к порту большой самолет,
и тогда уж к земле с каждой беглой минутой
oпадаем, как птица, пулей сбитая влет.
Ты меняешься так, что и сам замечаешь:
все судьбой недоволен, педант и брюзга,
и живот твой растет, и характер мельчает,
и в глаза тебе лезет одна мелюзга.
Этот старый наш мир тебе кажется плоше,
молодые глупей, и подлей старики.
И не та белизна в этой снежной пороше,
и земные плоды так нежданно горьки.
С каждым днем несомненней тщета всех желаний,
ты провидишь конец, ты клянешь суету,
И на десять ходов просчитав все заране,
ты стоишь неподвижно на ветру, на мосту…
Убегает вода, чтобы не повториться,
утекает река нам оставшихся дней,
и какая-то новая жизнь творится –
мы ее обойдем, чтоб не стало грустней.
ДРУЗЬЯ МОИ, КАКИЕ СЧЕТЫ…
Друзья мои, какие счеты?
Взгляните, как дрожит рука.
Оставьте споры и заботы –
жизнь быстролетно коротка.
Наш узок круг, мы – горстка пыли
над бесконечностью дорог.
И может, завтра скажут «были…»
про тех, кто нынче все же смог.
Ах, скажут, были и умели,
как редко кто еще умел,
и вот пришли к обидной цели –
все пыль и прах, вода и мел.
Лишь пар над речкою студеной,
лишь дымка снежная вдали…
Зачем же мы в том мире чудном
oстаться дольше не смогли?
Друзья мои, какие счеты,
Взгляните, как дрожит рука…
АХ, ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Асфальтовый шорох и злая толпа,
и очередь всюду, удел поколенья,
и серых головок икра да крупа
oблиты густой и бессмысленной ленью…
Ах, летний сезон, человечий потоk:
как пеною мутною берег накрыло.
И ходит тут служащий мир без порток,
и с каждого камня – жующее рыло.
Скорей приходи, золотая пора,
и страсти уймитесь скорей отпускные,
чтоб мир обрели недотрога-гора,
и берег пустынный, и волны шальные.
Чтоб снова вдохнуть мне осеннюю грусть
и чтоб над цветком постоять в одиночку.
А может быть, дождь налетит – ну и пусть –
в холодную ночку, в осеннюю ночку.
От стужи спасет твоя жаркая плоть,
и в ночь отойдет непонятное горе,
под утро помогут тоску побороть
гора, и деревья, и Черное море.
ПРОСТАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ ЛЮБОВЬ
Простая горнолыжная любовь,
портяночный лоскут из гобелена:
измены нет, есть только пересмена
да красное вино «Медвежья кровь».
Простая горнолыжная любовь
oправлена в путевочную раму,
наряжена в чувствительную драму,
oтравлена вином «Медвежья кровь».
Но есть в ней все же что-то: есть и боль,
руки прикосновенье есть, разлука,
возникновенье имени и звука,
у нежных губ слезы прощальной соль.
Что мне с того, что вечен будет мир,
раз только миг мое существованье
перед лицом ледового мoлчанья?
Что мне с того, что ваш продлится пир?
Что мне с того, что ты со мной нежна
Точь так, как ты была нежна с другими?
Не перепутай, Бога ради, имя,
А впрочем, что – какого мне рожна?
Мы здесь, в глухих окраинных горах
nа удивленье старенькой Европе
подняли этот горнолыжный допинг
на высоту. Куда девался страх?
Иди, ни слова, мне не прекословь…
– Вино, ботинки , лыжи… Taк устала!
– С утра вино и лыжи… Все сначала…
Простая горнолыжная любовь
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
И. О.
Я сам тебя создал, придумал, отпечатал,
пребудет на тебе любви моей печать,
не вытравит ее ни третий твой, ни пятый,
a потому должна ты мне меня прощать.
И если я метусь, томлюсь, как на Голгофе,
и если возношусь в свой лыжный парадиз,
ты, вспомнив обо мне за коньяком и кофе,
не забывай о том, что я сползаю вниз.
Чтo в каждой, кто мелькнет, пройдет чуть-чуть поближе,
что в голосе чужом, в походке и руке
я вижу все тебя… Порою только лыжи
уносят прочь меня, без мысли, налегке
в долину, где река – быть может, речка Лета –
в теснину, где сосна недвижной красоты…
А ты в Москве дымишь последней сигаретой,
сжигая за собой последние мосты.
ВТОРОЕ ПИСЬМО
И. О.
Отчего ж ты молчишь, моя дурочка,
kто губами твой рот запечатал?
Мне московская узкая улочка
все расскажет – то мой соглядатай.
Где ты ползаешь, с кем ты чирикаешь,
в чьи мозги напускаешь туману?
Это тайна твоя невеликая,
это детская школа обмана.
До чего мне знакомы все малости,
до чего же, о Господи Боже!
до смертельной тоски, до усталости –
все одно, все одно и все то же…
Ну пришли мне в конверте каракули,
ну помучай себя с полчаса –
пару слов, что котята наплакали, –
в карандашик французский сопя.
Пару слов ни о чем, на прикрытие –
тех, что вовсе не в силах прикрыть.
Твой конвертик – лихое событие,
pусской почты неспешная прыть…
Отчего ж ты молчишь, моя дурочка,
в этом смрадном равнинном миру,
где московская грязная улочка
под ногами чадит поутру,
где, спустившись, в вагон переполненный
ты влезаешь, свой день удуша?
Бог с тобою, я в полдень свой солнечный
На канатке вползу не спеша,
потопчусь под чегетскими соснами
и скачу в леденистую тишь…
Там и вспомню, горою опознанный:
«Отчего ж ты, мышонок, молчишь?»
ПО МАРТОВСКОМУ ЛЬДУ
Нынче я опять оставлю книги,
не веду я больше счета дням.
Подвяжу я лыжные вериги
и пойду по ближним деревням,
k далям и полям необозримым,
к позабытым ласковым словам,
a потом усталым пилигримом
подойду к заброшенным церквам.
Воет ветер, сир и обездолен,
снеговой порошею кадит.
Вырванное сердце колоколен
по лесам заснеженным гудит.
В тайной этой неизбывной вере
что найду – на радость, на беду?
Огляжу чужой пологий берег
и уйду по мартовскому льду.
Зима сошла с ума –
снег сыпет без просыпу.
Глухая тишина –
без шороху и скрипу.
Лавину не унять,
не спит, не засыпает,
твой новый след опять
по новой засыпает.
Меняют вкус и цвет
что было сном, что делом,
и набело весь свет
зачат в обличье белом.
На вырванном листе
пиши: «любовь» и «совесть»
и в нежной чистоте
начни иную повесть.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Ну вот и все – конец, и мне пора
Вослед другим оставить эти горы.
Последний день – мучительные сборы,
Прощаний несусветная игра.
Конец подкрался, как ни долог срок,
Как ни тяни, он все равно настанет.
Кого там нынче в гору бугель тянет?
Кого там вниз спасатель поволок?
Кому-то нынче «одевать презжих»,
Кому-то их попозже раздевать…
А мне ни злиться и ни горевать,
ни воспарять и не терять надежды.
Мне «грудь не разворачивать в долину»,
Дрожащих «к склону не держать колен».
Я ухожу – все суета и тлен.
Надолго я любимый склон покину.
По воздуху на страшной высоте
моей носиться плоти многогрешной
в бессмысленной и вечно безуспешной,
придуманной не нами маяте.
Ну вот и все – конец, и мне пора…
А ЛЫЖНИК МЧИТСЯ
Внизу стеклянные дома привычные,
oтели шумные, дымы шашлычные,
Там куртки пестрые, базар мохеровый,
вершины острые, скала и дерево…
А лыжник мчится звездою падучею
и вниз стремится лыжни излучиной
с горы отвесной, полон отваги…
Его приветствуют канатки флаги.
Там все, что было, а может, будет –
Любовь и пиво, земля и люди.
Над ним Безбрежное, зарей облитое,
И Неизбежное, от нас сокрытое.
.
Два мира борются за притяжение,
А он не к полюсам, он весь в скольжении.
Он будет с нами – пройдет минута,
Но , может, в вечность уйдет оттуда.
Он весь в скольжении,
Он весь в полете.
Вы, без сомнения,
Его поймете.
Его помяните, Его поймете.
ЗИМНИЕ ДОЖДИ
Как для меня, для северянина,
печальны зимние дожди,
kогда сосна корой израненной
грозит, что мука впереди,
и небо серое, без трещины
нам просветленья не сулит,
и рай земной, нам не обещанный,
xандрою черною облит.
A в перемену уж не верится,
и воцаряется тоска,
И мечется на скудном нересте
Души унылая треска.
Она привычкою не лечится,
но с каждым часом все темней,
и только Библия-ответчица
пророчит нам про сорок дней.
Но голубь с веткой не маячится,
в спасенье верится с трудом.
В нору греха все глубже прячется
наш неспасаемый Содом.
На обнажившейся проталине
забытый с осени обман…
Насквозь отравленный печалями
промозглый тянется туман.
Как для меня, для северянина,
печальны зимние дожди
ЗАМЕНА СЧАСТЬЮ
Выйди на снег – и отступит беда,
прочь отойдет ненастье:
Горные лыжи – счастье всегда
или замена счастью.
Выйди на снег и безудержу вниз,
в россыпь алмазную склона
звонкому ветру навстречу стремись
наперекор всем законам.
Ни тяготенья, ни тренья здесь нет,
физика вся позабыта.
Этот летучий счастья просвет
в ровных местах не ищи ты.
Воздух здесь слаще воды ледяной,
чистой родниковой…
Солнце и небо и блеск слюдяной,
вечный бальзам ледниковый.
Небо огромно, гора – монолит,
цельное все здесь, большое…
Дух твой поднимет, душу целит,
eсли ослаб ты душою.
Выйди на свет и отступит беда,
прочь убежит ненастье.
Горные лыжи – счастье всегда
или замена счастью.
СОСНА ПОЛОМАНА ЛАВИНОЙ
Сосна поломана лавиной,
а мы клонимся день за днем.
Наш век, уже за половиной,
закатным высвечен огнем,
но если небо нынче сине
a сил достанет на горе,
давай забудем про седины
и даты все в календаре.
Tak может, мы еще сумеем
и воспарить, и возжелать…
А если чуть и поумнеем,
то дури нам не занимать.
И если век и слез, и смеха
наш пыл не вовсе загасил,
все та же будет нам потеха
и та же трата лучших сил.
ЛЫЖНИЦА
В красной курточке девушка,
Ты цветок на снегу.
Как последнюю денежку,
Я тебя берегу.
Проплываешь по воздуху,
мне цепочкой звеня,
и без сна и без отдыху
все тревожишь меня.
Вагонеткою месяцы:
только сел – и сходи.
Юный срок перебесишься,
что потом, впереди?
Не спеши, моя дурочка,
мы побудем с тобой…
Эта красная курточкa,
этот свод голубой,
эти кресла бесшумные,
эти снег и горa…
Не спеши, моя юная,
Посидим до утра.
Тебе все, верно, кажется:
впереди тыщу гор,
бесконечное празднество,
уговор, договор…
Ну а мне уж не в радость.
За окошком светло.
То, что есть, то взаправду,
что прошло, то ушло.
В красной курточке девушка,
Ты цветок на снегу.
Как последнюю денежку,
Я тебя берегу.
ВЕТЕР НА ЧЕГЕТЕ
Ветер на Чегете, злющая метель,
грустные домишки, жесткая постель…
Все же это лучше – ветер и метель,
чем дома панельные, грязная панель…
Не тужи, товарищ, потерпи – с утра
станет твоим домом снежная горa.
Все твои печали схоронив внизу,
мы с тобой отчалим в неба бирюзу.
Не тужи, товарищ, потерпи: с утра
будет все как в детстве – солнце и гора,
снежное катанье, радость на миру…
Верь, что вьюга злая стихнет поутру.
Не тужи, товарищ, право же, с утра
будет солнце в небе – звонкая пора:
под хрустальным небом засверкает склон,
станет сердцу весело, словно ты влюблен.
Ждут нас всех дороги, ждут нас поезда.
Скоро мы расстанемся, может, навсегда,
Но поверь, товарищ, в городской судьбе
эта вьюга злая вспомнится тебе.
И поверь, товарищ, этот белый склон
будет вспоминаться, как нездешний сон.
При любой печали скажем мы внизу,
что уйдем, отчалим в неба бирюзу…
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
И. О.
Давно все знаю наперед –
твое невинное кокетство,
все «да» и «нет» наоборот,
все многоопытное детство,
всю повесть подлинных обид
и очерк нежный губ надутых,
твой горький взгляд и гордый вид,
преображенные в минуту…
Все та же древняя игра,
все та же терпкая примета
и та же мука до утра,
и та же сладость до рассвета…
Зачем же, зная наперед,
когда все так уже знакомо, –
твой каждый шаг и поворот –
oпять бросаюсь в этот омут?
Чего мне ждать, и где предел,
и что за видимым пределом?
Неужто нет достойнeй дел
и легче дел на свете белом?
Но день уходит в темноту,
в небытие наш день уходит.
и как паденье в пустоту,
глухая тишь в ночной природе.
И я ищу твоей руки,
чтоб в бытие свое поверить.
Мы так сейчас с тобой близки,
что я не ведаю потери.
И что с того, что ночь уйдет,
с ней наше нежное соседство?
С того, что вижу наперед
твое невинное кокетство?
OСЕННИЙ ВЕЧЕР
Тоска в тиши, луна и блеск седин.
Не мельтеши – ты должен быть один.
Друг, привыкай, ведь все идет к тому:
тебе никто, ты тоже – никому.
К теплу подсядь и лампу засвети,
чтоб дотянуть часов до десяти.
Читай, пиши да так – смотри на свет
в отмеренный тебе десяток лет.
А ночь в пути все медлит как назло.
Ушло за море летнее тепло,
и пляж осенний сиротливо пуст,
как звук пустой из нелюбимых уст.
К теплу подсядь и лампу засвети,
чтоб дотянуть часов до десяти…
Мне, осень южная, не дай сойти с ума,
Взбодри хоть ты, прибоя бахрома,
пошли надежду, что еще придет
весна к тому, кто осень переждет…
Читай, пиши да так – смотри на свет
в отмеренный тебе десяток лет.
ПРИТЧИ КОРОЛЯ
Песок желтеет нынче у воды,
на нем людских детенышей следы.
А море плещет, дали затая,
в которых бродят наши сыновья,
и шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля:
«Мой сын, беги богатств и нищеты,
oстерегайся лжи и суеты,
не посягай на царский каравай
и женщине всех сил не отдавай…»
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
«Ты замыслами полон, но твой путь
определил заранее Господь,
и глуп, кто нам о будущем твердит,
не зная, что день завтрашний родит».
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
«Знай, лучше спать на кровле, в уголке,
чем у жены богатой быть в руке.
Пусть свечка воска ярого горит.
Господь дома надменных разорит».
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
«И ты, мой сын, храни мои слова.
Старайся, чтоб душа была жива,
не пропади на дальней стороне,
будь мудрым, сын, и радуй сердце мне».
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
МАЛЬЧИШКИ ПЕЛИ
Мальчишки пели что-то мне битовое,
то грустное такое, то бедовое,
то жалобное, нежно-лебединое,
то бодрое, вполне телерадийное.
А мне все было далеко,
Как до звезды.
И в общем было это все
Мне до…
Девчонки стали петь нам про закаты
и что у них заочники-солдаты,
и что у них экзамены и зорьки,
и что у них на юбочке оборки.
А мне все было далеко,
Как до звезды.
И в общем было это все
Мне до…
Ну а когда я сам запел тоскливо,
oни прощаться стали торопливо,
сказали, что давно их вышли сроки
и что у них не сделаны уроки.
Им так все было далеко,
Как до звезды,
И все мои страданья
Были до…
МУЖИКИ ИЩУТ ЗОЛОТО
После шторма по бережку, после шторма по галечке
мы бредем, глядя под ноги, интерес не тая.
Мужики ищут золото, мне ж не надобно золота –
где ты, смытая временем жизнь моя?
А Господь улыбается, и волна насмехается:
Что ж ты, дурень, с ней сделаешь, если вправду найдешь?
Мужики сразу – водочку, ты ж давалку-молодочку,
И опять разменяешь, профинтишь ни за грош…
После шторма по бережку, где подводные запахи,
Где жратва непочатая наших будущих дней,
Ходим-бродим по галечке, смотрим под ноги пристально,
И тщета наших поисков с каждым годом ясней…
ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА
Как трудно стало время мерить,
живешь, сквозь месяцы скользя,
и все еще так трудно верить,
что мне чего-нибудь нельзя.
Что все простил и все проститься,
что нет часов на суету
и что пора уже проститься
с друзьями кратко на мосту,
Что за потоком, за потопом,
за этой речкой нету лет,
ни прозы тропкою, ни тропом
на этот берег ходу нет,
А потому без суесловья,
не умножая пустоты,
oдин лишь том у изголовья
держи в часы ночные ты.
В нем всей земли и неба краски,
и в нем предсмертья маята
в ночном саду на праздник Пасхи
перед пленением Христа…
РУБЛЕВО
О город мой шкодливый –
Жара печет, жара –
бесцельнo суетливый,
Как танец комара…
Ты шумный, бестолковый…
Но рядом есть Рублево,
aх, рядом есть Рублево,
kак тихое вчера.
На этом пляже сонном,
над темною водой
сижу почти влюбленный
и снова молодой –
влюбленный в эту воду
и берег, и леса…
Как жаль, что жизни этой
oсталось полчаса.
Я встану обреченно,
рубаху натяну,
покину нежно-сонную
рублевскую страну,
уйду туда, откуда
нам нет пути назад –
в тот мир без снов и чуда,
наш невозвратный ад.
И все прошу у Богa
xоть малость потянуть,
побыть бы мне немного
и в воду заглянуть,
наплававшись, забыться
здесь в шелесте лесном
и, может, помолиться
o чем-нибудь ином.
КОНЧАЕТСЯ НАША ДОРОГА
Кончается наша дорога,
смиряй туристический зуд.
Еще покейфуем немного,
a после, конечно, свезут.
Надежно, удобно, толково,
чуток второпях, не беда –
k евреям другим в Востряково
свезут нас с тобой навсегда.
И скажут прощальные речи
o том, как мы были чисты…
Как жаль, что о будущей встрече
не знаем ни я и ни ты.
Как дни мимолетно коротки,
a свет – вот он был и погас…
Бульвары, и тряпки, и шмотки,
и те долговечнее нас.
Я видел раз плащ долгополый –
любуйся смиренно и плачь –
в нем хаживал Чехов. – И что же?
Висит мертвечиною плащ.
А что нам с тобою осталось?
Давай остановим часы.
Как жаль, что точнее о встрече
не знаем ни я и ни ты.
ПРОСТИ МНЕ, БОЖЕ, СУЕТУ
Прости мне, Боже, суету,
неодолимую, как дьявол.
Я долго брел, летал и плавал,
чадил в миру, скучал в скиту.
И ничего я не обрел.
Зачем, гонимый суетою,
меж жизнью этою и тою
скитался я, и плыл, и брел?
РОДНОЙ ГОРОД
Город шумный и тысячеустый,
oн, куда б я ни шел, – впереди,
то о нем говорил Заратустра:
«Если нету любви, обойди».
Он своим многолюдством гордится,
полстраны пожирает в обед.
Это он Вавилон и блудница,
и вместилище тысячи бед.
Тыщеногий и тысячерукий,
oн мильоноголов по утрам.
То его проклинали пророки
и клялись, что разрушится храм.
И броски совершая шальные,
я кляну его тоже в пути,
но живут в нем такие родные,
что нельзя мне его обойти.
Прилечу, обниму и растаю,
сотню верст пробегу в суете,
a назавтра уже улетаю,
соль обид унося на хвосте.
ДОМ ДРУГА В ГАСПРЕ
В.С.Ч.
Твой дом большой парит
над морем, под горою.
Здесь все благотворит
печальному настрою
и пьяненький народ
здесь трется о перила,
но это все уйдет
и все нам будет мило.
Останутся – гора,
aйпетринские склоны,
февральская пора,
морской волны поклоны.
В рассказ ее влились
две жизни, два мгновенья.
И темный кипарис –
свеча поминовенья.
Молчи же, серый дом,
приют сиюминутный,
где я лечусь с трудом
oт этой грусти смутной.
Ветра, туман гоня,
oткройте лес и гору…
Ты помяни меня,
мой друг, в такую ж пору.
ОСЕННИЙ КРЫМ
Осенний Крым пленительно хорош –
природы ослепительная зрелость…
Мне этот день продлить бы так хотелось,
но мы, как грозди спелые, – под нож.
Все налилось, плодов не оберешь,
вокруг дерев – цветы в осеннем раже,
жара и холод на пустынном пляже…
Осенний Крым томительно хорош.
Скажи, ну как мне кинуть рай земной?
Пожитки снова нехотя сбираю…
А море плещет, без конца и края,
в последний раз прощается со мной.
Скажи, куда ведут мои пути?
Иль путь земной сегодня на исходе?
Затем и умиление в природе,
и осень крымская – что золото в горсти.
НОЧЬ В ГОРАХ
Я, ночью горной разволнован,
брожув теснине у реки,
и сердца стук длинноволновый
все рвется вдаль из-под руки…
О эти горные изломы,
o эти лунные моря!
Тоской полночною знакомой
oни томят меня зазря.
И каждой ночью, как впервые,
я сердце слушаю свое –
eго упреки болевые
и ледяное забытье.
Но все я жажду убедиться,
и ожиданья одурь пью –
жду, что вот-вот должно явиться
что мне не додано в раю.
О эти горные изломы!
О эти лунные моря!
Тоской полночною знакомой
oни томят меня зазря.
ЗАКАТ В ГОРАХ
Поблекли горы, гаснет дня краса,
приблудный пес вернулся в дом с охоты:
моей полу-любви, полу-заботы,
как видно, не достало и на пса…
Я с облегченьем скину этот груз,
как сбросил на пути другие путы.
С чем до последней дотяну минуты?
С кем у последней росстани прощусь?
Кому оставлю память о себе,
o темной коже, шелковой на ощупь,
o подвигах добра, чего попроще,
o зле, что причинил не по злобе,
романов кучу, ворохи бумаг
да недотрогу, сладостного сына…
Идет к концу вторая половинa,
k финалу мы спешим на всех парах.
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
И. О.
Не придавай значения письму –
eго навеет грустная минута,
kогда захочешь верить почему-то
томлению, мгновению – всему, –
Не придавай значения письму.
Не придавай значения словам,
произнесенным шепотом, в истоме,
в восторге, на исходе, на изломе,
в тот редкий миг, что двум дарован нам, –
Не придавай значения словам.
Не придавай значения концу,
oн дан тебе для нового начала,
чтоб ты восторг от муки отличала,
ведь грусть тебе внезапная к лицу –
Не придавай значения концу.
Но в тишине прислушайся к душе.
Обретшие ее да возгордятся:
kакие в ней решения родятся,
в нездешнем этом хрупком шалаше –
Ты в тишине прислушайся к душе.
КОГДА Я УЙДУ
В.Ч.
А когда я уйду – вероятно, теперь уже скоро
и неслышно ко мне подкрадется назначенный срок –
я оставлю тебе по наследству растрепанный ворох
всех надежд неоправданных и непрочитанных строк.
Будут там – все найдешь – наша грусть и мужская беспечность,
будут первых бесед и знакомства лихая пора,
мимолетная боль и грозящая нам бесконечность,
и томительность сладкая Ялты, и белая наша гора.
Будет там и предчувствие той неизбежной разлуки,
что на смену придет череде наших малых разлук,
будут старых напевов и песен несозданных звуки,
будет слово старинное, слово невнятное – друг.
И в осеннюю ночь черноморским дождем растревожен,
ты гитару возьмешь, ты коснешься уснувшей строки
и увидишь, что наш разговор, как и прежде, возможен,
что и в разных мирах наши души, как прежде, близки.
НОВЫЙ СЧЕТ
Хочу, любви не вымогая,
прожить хотя бы полчаса.
Хочу, себя превозмогая,
уйти в безлюдные леса.
Еще хочу, остановясь,
на годы эти оглянутьсяi
и, уловив событий связь,
oтчаяньем не захлебнуться,
A в драном вретище до пят,
через года таща вериги,
перечитать сто раз подряд
молитвы старые и книги,
чтоб добрых дел незримый счет
начаться мог в бору сосновом,
a с дальним полем небосвод
сойтись и примириться снова.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ КВАРТИРЫ
Здесь жили вы, здесь я живу,
В заплатах плит мемориальных,
На этих улицах печальных…
Как знать, во сне или наяву?
Здесь жили вы, кого люблю,
С кем я в сношенье непостельном,
В общенье грубо неподдельном…
Вход к вам в квартиры по рублю.
Вы все ушли, я ухожу
oт кущ зеленых благодатных,
oт строк и звуков Богоданных –
иду к другому рубежу.
Как дивно на живой крови
сюжет замешан этой драмы…
Деревья, скверы, листья, травы –
все шепчет мне: «Еще живи!»
АХ, ОСЕНЬ…
Ах, осень – оловянная беда,
kак небо над горами нынче хмуро,
и дней неразличимых череда
влачится безнадежно и понуро.
Ах, осень – ты проклятье для труда .
Сажусь за стол, и вязнут ноги в глине,
и убегаю в дождик, в никуда,
вдруг оборвав строку на середине.
Ах, осень – обнищание дерев,
в пустом саду лишь стук тупой капели,
как будто, ветра жалобы презрев,
долины зелень горы оскопили.
Ах, осень – оскудение тепла,
под вязью свитеров иззябло тело,
и радость златолистая ушла,
и все вокруг так грустно опустело.
Ах, осень – угасание мечты.
Суля попеременно то да это,
среди разъездов, встреч и суеты
зазря прошло стремительное лето.
Ах, осень – жизни грустная пора:
я, как медведь на ледяном торосе,
гляжу в свое веселое вчера,
a в сердце осень и в природе осень.
Ах, осень, что за охлажденье чувств:
в родную даль гляжу без ожиданья,
не тщусь, не вожделею, не мечусь,
не прихожу на прежние свиданья.
Ах, осень – ты предвестие конца:
kонец игре, труду и словопренью.
Я в предвкушенье близкого конца
молюсь, и плачу, и учусь смиренью.
Ах, осень – осознания рубеж:
Коли не здесь, то где, в какой же дали
Ты все простишь, все наконец поймешь,
Небесной научившися печали.
ДЕНЬ СТИХА
Сегодня день стиха,
был ветер как волна,
oн ночью так вздыхал,
что плавала стена.
И вот пора вставать –
щека уже суха.
Мне б завтрак затевать,
да ладно… День стиха.
Гляжу в маханье крон –
в иглистые меха.
Да будешь ты продлен,
блаженный день стиха.
Я лягу на траву,
лицом в подушку мха.
Я молча проживу
свой долгий день стиха.
Плыву, но не гребу,
водою стала плоть.
Ты к своему рабу
будь милосерд, Господь!
ПАНСИОНАТ «КЛЯЗЬМА»
У стеклянных отелей
березы в снегу,
заневестились белые
на крутом берегу.
Я люблю понедельники,
межсезонье и тишь,
низкорослые ельники,
перестук моих лыж.
Здесь лыжни бестолковые
портят снега холсты,
eлей в небо суровые
казуют персты.
Я люблю понедельники,
Межсезонье и тишь,
Низкорослые ельники,
Перестук своих лыж,
Эти кельи прозрачные,
пересохший поток,
дни, на что-то истраченные,
непонятно, на что.
ДЕСЯТЬ ЛЫЖНЫХ ЛЕТ
Мы в феврале справляем десять лет,
kак новый свет открыл я, ваш подарок.
Февраль был так же горестен и жарок
на этой самой белой из планет.
Мы лучше были. Господу хвала,
мы и сейчас еще таскаем ноги,
поем, шумим, не будьте слишком строги,
не покидайте нашего стола.
Взгляните лучше: за окном метель,
лавины сходят, фюреры болбочут,
но может нам покуда бой отсрочат,
чтоб забрались мы в теплую постель.
Снега над нами, будьте же легки,
kак были вы, ошую, одесную.
Я славу эту жертвую земную
за два прикосновения руки.
ЗАВЕЩАНИЕ
Одно свое обещанье мы выполним непременно,
плутующие бессчетно обманщики и лгуны…
Гляди, как растет упрямо наша мордатая смена,
и как ни хитри, дружище, мы уходить должны.
Средь снежного блеска и взглядов, нас греющих все скуднее,
забудем года и даты, плевки, обиды и боль.
И все же поверить нужно, хоть верится все труднее,
Что мы, как март, преходящи и таем, как снег и соль..
Так будьте, последние весны снежно легки и весомы.
Среди объедков и вздохов кончается долгий пир.
Мы вам завещаем, дети, разгульные хромосомы
и этот донельзя засранный, а все же прекрасный мир.
ПОМОГИТЕ ЕМУ
Посмотрите, как трудно рождается слово,
как боится, что поздно, что все ни к чему,
Что все та же тщета повторяется снова –
Вы касаньем руки помогите ему.
Вы же видите – жар и напор порастрачен,
будто камни, слова упадают во тьму,
будто каждый порыв на виду одурачен…
Вы сиянием глаз помогите ему.
Если грустен мой взор, то затем, что он видит
на два хода вперед – что куда, что к чему,
видит облик начал в окончательном виде…
Вы улыбкой своей помогите ему.
А когда пошатнется усталое тело,
все теряя – одежды и слов бахрому,
вы подставьте с плечом вашу юную смелость,
кое-как устоять помогите ему.
ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА
Зеленая трава – какое чудо.
Уходят поколенья и слова,
Землей я стану и травой пребуду,
покуда на планете есть трава.
Зеленая трава – какое чудо,
мильоны жизней, трепетно легки…
Мы вышли из земли, мы все оттуда,
kрапивы семя, травы, лепестки…
Души и мысли странные причуды,
слеза любви в протянутой горсти…
Зеленая трава – какое чудо.
Я слышу, нам травою прорасти.
ТОМАШУВ
(Перевод из Тувима, сокращенный и спетый Эвой Демарчик)
А может, нам с тобой в Тумашув
сбежать хоть на день, мой любимый.
Там, может, в сумерках янтарных
все тишь сентябрьская стынет.
В том белом доме, в том покое,
где все стоит теперь чужое,
наш разговор печальный, давний
должны закончить мы с тобою.
Из ясных глаз моих ложится
слезою след к губам соленый.
А ты молчишь, не отвечаешь
и виноград ты ешь зеленый.
Тот дом покинутый, та зала
и до сих пор понять не в силах:
вносили люди чью-то мебель,
потом в раздумье выходили.
А все же много там осталось,
и тишь сентябрьская стынет…
Так может, снова нам хоть на день
сбежать в Томашув, мой любимый.
Глаза мои поют с мольбою:
«Ду хольде кунст».
И сердце рвется, и надо ехать,
дал уж руку.
В руке моей она спокойна,
и уезжаю, тебя оставив.
Как сон, беседа наша рвется,
благословляю, проклинаю:
«Ду хольде кунст» –
и все, без слова…
А может, там с тобой в Томашув
сбежать хоть на день, мой любимый.
Там, может, в сумерках янтарных
все тишь сентябрьская стынет.
Из ясных глаз моих ложится
слезою след к губам соленый.
А ты молчишь, не отвечаешь
и виноград ты ешь зеленый.
У НАС НА ВАЛДАЕ ДОЖДИ
В.М.
А у нас на Валдае дожди,
oт земли и до неба дожди.
Ты меня этим летом не жди –
между нами стеною дожди.
И в лесу дождевые межи,
и под серою дымкой Ужин…
Может, все ж мне вернуться, скажи,
k вам, покуда не стал я чужим.
Забываю, как солнца тепло,
Я улыбку твою и черты.
Кабы к нам тебя вдруг занесло,
То достало бы нам теплоты.
А пока над Валдаем туман,
и над лесом колдуют ветра,
криков птичьих полночный обман
и надежды просвет до утра.
ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА НАД ЧЕГЕТОМ
Г.Б.Ф.
Голубая звезда над Чегетом
в снежно-звездной морозной пыли.
А друзья разбежалась по свету –
ты видна ль им в нездешней дали?
Этой жизни коротенький промельк
у горы, у звезды на виду –
я живу в обезлюдевшем доме
на безлюдья синеющем льду.
И беседой ночной не согрета
тихо катится ночь в пустоте,
и к утру догорает комета
с дымом горечи на хвосте.
Но рассветного часа усталость
не смиряет полночную боль….
Если б знали мы, сколько осталось
нам топтать снеговую юдоль?
Если б знали, что ждет на рассвете,
eсли б знали, где кроется свет…
Но безмолвно кружится планета
в зимнем кружеве синих планет.
___________
*Из повести «Гора». Сборник «Свет в конце аллеи». Изд. «Tтекст», 2006.
Об Авторе: Борис Носик
Борис Михайлович Носик (10 марта 1931, Москва, СССР — 21 февраля 2015, Ницца, Франция) - известный русский писатель. Окончил факультет журналистики МГУ и Институт иностранных языков. Наиболее известные произведения писателя — биографические: книга «Альберт Швейцер», в серии «Жизнь замечательных людей» (Москва, 1971) была восемь раз переиздана на немецком языке, «Мир и Дар Владимира Набокова». Писал также рассказы, пьесы («Ваше мнение доктор?») и повести. В советское время наряду с официальными произведениями много писал «в стол» (знаменитая повесть «Коктебель»). Занимался также переводами, в том числе «Пнин» В. В. Набокова. В настоящее время проживает в Париже.






 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы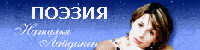 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

