ЭДУАРД ХВИЛОВСКИЙ ● НЕМЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ● СТИХИ
 ГОРОД-РОДИНА
ГОРОД-РОДИНА
По рельсам я тебя узнаю,
по ржавым, кованым крюкам,
по чуть обглоданному краю,
по спинам женщин, по садам,
по звукам твоего трамвая,
по дыму парковой листвы
осенним днём, по чашке чая,
по повороту головы,
из крана по воды журчанью,
по несвершившимся делам,
по краешку воспоминаний,
по сохранившимся следам,
по пустоте одной бутылки,
по вскрику, по движенью глаз,
по захудалому обмылку,
по рacоположенью рас,
по скрипу лестниц заповедных,
по блеску форточных окон,
по эху окликаний бедных,
по ставкам на последний кон,
по дыму из трубы, по ваксе,
по дрожи стареньких перил,
по запаху воды, по кляксе,
по теням брошенных могил,
по старым шпалам при вокзале,
по запахам небытия,
по занавескам из печали,
Одесса – Родина моя…
* * *
«Итак, я жил тогда…»
А.С.Пушкин
«Итак, я жил тогда…» – и это
и кровь моя, и воздух мой,
и двe ocи кaбpиолета
из февраля, и мой покой,
и ложь моя – моя удача
на самой личной стороне,
где, вoвce ничего не знача,
я побывал и на Луне,
и в Императорском Приказе,
и в рощах всех мирских олив,
и в хрустале нaстoльной вазы,
и в слёзной радости всех ив,
и смехом всей Земли цыганок
я был, и королём шутов,
и рыбкой рыбок всех бананок
и повелителем снегов.
О, как «Итак я жил…» когда-то!..
Земля хранит ещё следы,
и место по сегодня свято,
где я алкал тогда ходы,
и сохранились колокольцы
в центральном росчерке ветвей,
и где развешаны все кольцы
от вырубленных в скалах дней.
ОДЕССА
1.
И те же голоса. И то же своеволье.
Распахнутых окон печатный силуэт.
Знакомые дома. Знакомое подворье,
Оставившее в долг запомнившийся след.
И пыльный балаган. И пыльные предместья.
Над охристым песком – немеряная синь.
Избитые слова. Избитые известья.
Неутомимый гам и торг – куда ни кинь.
Неповторимый шарм. Неповторимый лепет.
Над каруселью лжи – другая карусель.
Сокрытый в чаще звон. Сокрытый в пене трепет.
И жгучих глаз твоих смеющаяся щель.
2.
В краю, где с высверком гроза
вдруг повышает голос вдвое
и глаз ночная бирюза
глядит на небо грозовое,
в краю, где воздух тих и чист,
ты видишь в сновиденьях ранних
протянутый с балкона лист
в узорах бога филигранных.
3.
Полукруглая арка
у входа на пляж «Ланжерон».
Жарко, жарко.
Аккордеон.
Запах юга, волны,
неустанной в своей теплоте.
Мы вольны.
Мы не эти, а те.
Освежающи лики
на тропах и просто вдали.
Исцеляющи блики
солёной воды.
Жизнь до школы.
И рядом свои затевают пиры
вкруг акации пчёлы,
сахаристы, быстры.
4.
Позабытая роль номерка на руке
за бечёвкой из неухоженной раздевалки,
где мячи, таланты, круги, скакалки
сочетались, как галька в огромной реке,
никогда не бывшей поблизости от
такого горячего летом пляжа
своенравного города без высот
или явных низин. Он всегда в раже
пребывал из фруктов, рыб и острот.
Проступившая соль на лодыжках ног
там, где ловилась рыбка-бананка.
На румынско-греческий солевой слог
попадалась нередко красота-смуглянка,
изогнувшаяся над большим заливом радуг
огневая ундина, что раз в году
отнимала сполохи у красных ягод,
подававшихся к праздничному столу.
Заохотив взгляд, черноморский «бычок»
улизнул с крючка рыбака удачи.
От шлепка об воду ушёл хлопок
без оглядки, потому что не мог иначе.
5.
Немечеными знаками полёта
над выветреной плоскостью полей
видна неповторимость перелёта
с длиннотами отмеченных долей.
Какая синь, какая зелень с умброй,
какой кармин, какие кружева!
Слагаемые песни вольнодумной
отыскивали нужные слова.
И так хотелось к красной черепице
прильнуть из безоглядности щекой,
что запах одомашненной корицы
покинул стол и сам пришёл домой.
6.
На невыдуманном просторе
под невыдуманный мотив
тёпло-сине-зелёное море
переходит в овальный залив
с колоннадой стихов на обрыве,
маяком и воздушным мостом,
где в подсоленном ветром порыве
до сих пор мы подспудно живём,
поминая и время удачи,
и музейный таинственный грот.
Мы, как прежде, смеёмся и плачем,
искривив как положено рот.
ПИСЬМО ДО ТОЧКИ
Там жарят рыбу и фаршируют всё,
включая жизнь вокруг Потёмкинской лестницы.
В миру там не было только Басё, но творил Боффо.
Память о нём жива в любой кудеснице,
которых там прорва на каждом углу
и в любой пляжной аудитории
университета или училища на берегу,
в любой школе и в обсерватории при фактории,
не говоря об оркестрах, жуликах и вранье,
где можно быть и одновременно не,
врачах и артистах в пикейных жилетах,
населении музучилища и консерватории,
аферистах, доходягах, атлетах
и художественно-инженерной аудитории.
Там, то есть здесь, можно одновременно быть и не быть,
но всегда принадлежать, даже за тысячи миль,
начинать продолжать и продолжать начинать любить,
независимо от того, копишь золото или утиль.
Газеты-птицы сливаются точно в одну
большую правду-неправду внутри пропитанных строк
и в бесконечную повесть, защищающую свою
территорию от зари до зари. Многослойный урок.
Перечислять всё – не хватит ни бумаги, ни времени, ни могил:
одно кладбище напротив другого, и третье рядом.
Дай в расторопности поболее сил,
чтобы объединить всех, кого, может, объединять не надо.
Море, простое снаружи и непростое внутри души
идиота, прозектора и архитектора,
такие выдаёт номера, что только пляши
внутри себя или в лучах своего прожектора.
Порт, удивительный подъёмностью тяжестей,
причаливанием кораблей половины мира,
начальством начальствующих начальностей
и занятостью населения города-пира.
Базар у вокзала систематического труда,
зелень всех продовольственных рядов вместе,
потоки плотно курсируют туда-сюда
с уважением и без большого уважения к чести.
Театр, живопись, литература – хорошо разбавленная политура,
суть – «панталоны, фрак, жилет», которых на проводе никак нет.
Акации с арбузами в шампанском, камбала, краб, налим,
перегруз накала в дружелюбии дружбы.
При любой погоде мы все хорошо сидим,
независимо от отношения к обрамляющей службе.
Университетов не хватит, чтобы всему научить,
поэтому выбран был главный – внутри городского шума,
чтобы различать тех, кого можно любить
и кого любить нельзя, ибо не разрешает дума.
Здание настоящей Думы – с фигурами, с часами,
с Пушкиным, который здесь жил и никуда не исчез.
Собрали деньги на памятник сами – их не дал никакой крез.
Это всё опера с опереттой, в которой внутри – Водяной,
и действие происходит на сцене хорошего театра
с собственной, особо определившейся душой,
о которой не слышали ни Ленин, ни Членин, ни Синатра.
И слава богу! Без них было тошно в направлении дня,
а с ними – ещё тошнее в направлении ночи.
Может, ты и не совсем понимаешь меня,
но правая почка наверное уже хохочет,
а это главное в таком состоянии жил,
когда до организации и порядка – ещё два пуда.
Я написал только о том, что сам на себе прожил
и о том, что сам видел, объезжая однажды верблюда
на велосипеде, на самокате, на самоходных своих узлах
вокруг трансформатора и одиноко стоящей бочки.
Следующая остановка – Форшмак-на-Больших Попыхах.
Здесь я дошёл до запятой, но не дошёл до точки
ГРИФОН
Моим был лишь забывшийся грифон
из чугуна в арахисовом парке:
на фото – только я и только он,
мне – пять, ему – четыреста. Подарка
я ждал тогда от каждой из ветвей
над местом развернувшегося детства.
И веселей, и строже, и больней
пристроилось пространственно соседство
из осознаний плотностей поры,
изведавшей замедленную радость.
Бульвары, фотографии, дворы
за гаражом изъезженным остались.
И, подпирая сочетаньем снов
оставшуюся неизменной душу,
я в перечне не выключенных снов
ни строчки исключений не нарушу.
* * *
Попробуй мыть зелёной губкою
волнообразное стекло.
Юркни не голубем – голубкою
туда, где редко так светло.
Потом обратно вниз захочется
на мостовые при камнях,
где шёлк цветистый мягко строчится
и в подворотнях слышно: «Ах!»
Иди, свободное поветрие,
без алгоритма и числа,
и алгебру, и геометрию
деля на чёлн и два весла.
Одно – тебе, другое – тоже мне,
а третьего нам не дано.
В распахнутом который день окне
плывёт прошедшей жизни дно.
* * *
Выше голову, брат, в этом радостном мире печали!
Ты, я вижу, не рад набежавшей весенней тоске.
Ты такой же, как я, – нас с тобою уже распинали,
И родная земля ловко ладила доску к доске.
Твой простуженный вид воскресенье твоё не украсит.
Он молчит и кричит на холодном и тёплом ветру.
Нынче совесть и стыд где-то в море далёком баркасят.
Не спасу я тебя – завтра сам от удушья умру.
Мы не первые здесь и не завтра последними станем,
А соблазны и спесь есть не то, чем нас можно кормить.
Из самих же себя на самих же себя и восстанем,
Если сами себе не позволим внутри себя быть.
Неизбежность во всём – от источника до поворота,
Где и ночью, и днём перелётная носится пыль.
А ворота в степи – это просто в степи те ворота,
За которыми вход в изумительный наш водевиль!
Мы играем с тобой, как положено просто актёрам.
Мы вдвоём и они! И они тоже с нами вдвоём!
Драматургом, оркестром, рабочим кулис, режиссёром –
Будем сами, и сами все песни в спектакле споём!
Выше голову, брат, я с тобой – до последней минуты!
Хорошо то что есть! То что будет – милей во сто крат!
Как Сократ, будем несть свои маски до встречи с цикутой
И ещё одну песню споём у невидимых врат.
* * *
От верхнего «ля» и до самых низин
Я в городе этом преступно один.
Не схвачен, не мечен, не встречен, не лечен, –
В тени пробиваюсь к подножьям седин.
Уверенный в каждом движении рот,
Так часто лепечет, так много берёт
Тонов полукружных от колкостей южных,
Пока неизбежностью не изойдёт.
А в каждом штрихе возведённой строки
Дыханья осознанных мер так легки,
Что запах ложбины далёкой долины
Касается в танце молекул руки.
От верхних порогов до нижних границ
Развеяна синяя синь небылиц,
Рассказанных ясно, напетых прекрасно
С амвонов забытых и новых страниц.
И нет ожиданий, и нет – чего нет.
Открылся – и снова закрылся брегет.
От стрел золочёных и цифр неучтёных
Остался в архивах шнурованный след.
* * *
Смотри! Я по вершинам ёлочным
к тебе несусь на покаяние,
морозом щиплющим, иголочным,
на безотчётное свидание.
По необъявленному признаку
найду отмычки залежалые
и обезличенному призраку
вручу свои кредитки талые.
Разворошу я одиночество,
позажигаю звёзды малые,
и однозначное пророчество
прольёт на землю струи алые.
Так распогодится окрестие
во встреченном лобзанье звонкое.
Золоторунное наперстие
под шалями такое тонкое.
«МЮНДИ-БАР» В ТАЛЛИНЕ
Сорок ступеней вниз
в таллинском баре свечей –
из обаянья виз
и узнаванья чей
застопорился взгляд
на сочетанье щедрот:
слева над стойкой – ряд,
справа – нечет и чёт
из огоньков зеркал
кварцевых с отблеском плит
заиндевевших скал
гладкий, ручной гранит.
Сорок минут зерна
огненного на песке –
в чашечки кофе на
радости волоске
и узнаванья слов
в мягком оплыве плечей
над перелётом снов
в дом, что ещё ничей.
Музыка из пустот
на протяжении зги.
Чуть приоткрывши рот,
медленно излови
всеми частями тел
в таллинском баре теней
чувственность цветодел
и осторожно слей
тяжесть суставов дня
в утяжелённость сумы.
«Здесь были ты и я…»
Там были мы и мы.
* * *
Познав и горе, и зарницы
в пространстве чуда бытия,
мы видим и не видим лица
помеченных, как ты и я,
и даже иногда счастливых
по календарным вечерам,
и лишь в кудельных снах игривых
в противолёт семи ветрам.
Презревшие центральный почерк,
наличию периферий отдавшиеся,
между строчек
мы терпкость пьём своих стихий.
* * *
Мой старый посох – моложав,
а моложавый – поистёрся
о светопреставленье трав
и о Земли вращенье торса.
Мой меч – в музеях и в шатрах
среди любимого аниса,
и в позолоченных делах,
где рыжая лиса Алиса
высокий сделала забор
из окончаний и приставок,
за ним укромный разговор
я вёл с отрядами пиявок
и с укротителем границ
всех государств Большого Мыса,
и с выражениями лиц,
и с сочинителем каприса.
Синеет море в пустоте.
Вокруг расставлены бинокли.
И все, кто ищет в темноте,
повсюду в мире одинокли.
Об Авторе: Эдуард Хвиловский
Родился в Одессе. Окончил филологический факультет Одесского университета. Работал в школе. С 1993 года живу и работаю в Нью-Йорке. Автор трёх поэтических сборников.

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы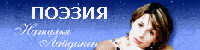 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

