ЛЮДМИЛА ШАРГА ● ВЗГЛЯД ИЗ… ● ЭССЕ
 Взгляд первый: Одесса, дождь, развалины Корсуни и Пантикапея, гармония и привычки…
Взгляд первый: Одесса, дождь, развалины Корсуни и Пантикапея, гармония и привычки…
… По Пушкинской стекает платановое золото, смешанное с дождевой водой, стекает под ноги пешеходам, а они и не замечают – привыкли, идут себе под зонтиками, мечтая только об одном: как бы поскорее домой добраться. До золота ли тут?
Таких ненормальных, как я, нет. А – нет, вру, есть. Вон идёт девушка без зонта, руки дождю подставляет.
В свете вечерних фонарей всё кажется иным, сумерки – сами по себе волшебство, сумеречный дождь – театральное действо, чудо, и освещение довершает, усиливает ощущение чуда, и всё кажется нездешним, из прошлого, далёкого прошлого.
Но Одесса из настоящего, из того настоящего, которое есть и будет всегда. Она красива, роскошна, романтична, несмотря на то, что никто эту красоту не бережёт, а красота, как известно, хрупка и беззащитна, и требует бережного отношения и внимания. И только тогда она может спасти мир.
Но власть предержащие «калифы на час», с тем, что строилось с любовью и на века, творят всё, что им вздумается. Après nous le deluge, как говорится, а жаль.
 Хотя… В Одессе полным-полно зданий, которые строились не на века, – они все одинаково безлики, и время не щадит их, как не щадит ничего и никого в этом мире, и руины будут столь же уродливы, вот как эти, мимо которых я сейчас и проезжаю в плацкартном вагоне скорого поезда.
Хотя… В Одессе полным-полно зданий, которые строились не на века, – они все одинаково безлики, и время не щадит их, как не щадит ничего и никого в этом мире, и руины будут столь же уродливы, вот как эти, мимо которых я сейчас и проезжаю в плацкартном вагоне скорого поезда.
Уезжаю…
Уезжать из Одессы всегда трудно, а в октябре – особенно. Уезжать от тёплого ещё песка, от лениво остывающего моря, от занесённой листвой, любимой старой лестницы – спуска к Ланжерону…
Но.. уезжаю и в тысячный раз спрашиваю себя: неужели эти жуткие, заброшенные останки зданий – тоже Одесса.
В американских фильмах начала 90-х прошлого столетия в таких местах решались судьбы мира – как минимум, происходили смертельные битвы «в живых должен остаться только один», чтобы потом наступил всеобщий хэппиэнд.
Руины могут быть другими, гармоничными и прекрасными.
Я впервые почувствовала это, оказавшись в Херсонесе, который ближе и привычнее звучит для меня как Корсунь, а потом – в Керчи, на развалинах Пантикапея.
Пока экскурсовод пыталась уместить в отведённые группе полчаса всю историю Босфорского царства, я к нему – к царству – прикоснулась, вернее к тому, что от него осталось.
Прикоснулась и ахнула – таким тёплым и нежным оказался древний камень, вобравший в себя многовековую энергию солнца.
Может оттого и почувствовала себя безмятежно-счастливой, просто от своего присутствия в этом времени и в этом месте, счастливой от возможности положить ладонь на солнечный камень, оттого что я – есть.
Такое ощущение счастья возможно лишь в детстве да ещё в таких вот благословенных местах.
И подумалось: если руины источают такую гармонию, то каковы же были дома в этом городе, как жилось в них людям, и какими были эти люди!
В Одессе есть такие дома, такие улицы и бульвары, где люди счастливы, несмотря ни на что, счастливы вопреки всем неурядицам дня сегодняшнего, изобилующего заботами о хлебе насущном.
Но не хлебом единым, как известно.
И я с радостью отношу себя к этим счастливцам.
Может, от осознания того, что живу в Одессе много лет, а всё ещё не привыкла к себе в ней, тогда как она – Одесса – уже давно во мне, течёт в моих жилах, питая сердце и душу любовью и стихами.
* * * * *
Взгляд второй: лес, вагонное безвременье, ностальгия, московская осень и много-много банальностей, подарки, томик стихов Тарковского…
… Лес. Настоящий хвойный – по обе стороны железнодорожной насыпи. Тёмного бархата хвои тень увядания даже не коснулась, вспыхивают золотые свечи молоденьких берёз, и зелёная темень сосен играет, переливаясь и дрожа, даром, что день пасмурный.
Сколько раз я проезжала мимо. И не счесть…
За окном … прошлое, убегающее от меня. Я очень хорошо вижу, что там, в этом прошлом, меня уже нет.
Нет меня и в будущем – вон оно, – до него рукой подать, и мои попутчики в первых вагонах, уже там. Но меня и там нет.
И в настоящем – тоже нет…
Где же я?
В вагоне скорого поезда время течёт по своим законам. И даже не течёт, потому что некуда ему течь, это поезд течёт по рельсам, шумно, неторопливо, а навстречу ему текут другие поезда.
Безвременье.
В нём всегда тревожно и крылато, в нём легко говорить о самом трудном с людьми незнакомыми, в нём легко пишется и легко молчится – смотрится в бегущее заоконье – и молчится.
Телефонный звонок кажется звуком из параллельного мира.
– Где ты сейчас?
Я медлю с ответом. Поезд несёт свои капсулы-вагоны мимо станции с удивительным названием «Зосимова Пустынь».
– Я только что была в Зосимовой Пустыни.
– ??? Ты же едешь в Москву!
– А я и еду в Москву. Но сейчас я – нигде, в безвременье. В вагоне скорого поезда…
… Ностальгию многие считают банальностью, блажью, выдуманным недугом, который весьма и весьма к лицу героине какого-нибудь сентиментального романа, где родина, покинутая и далёкая, снится в каждом сне. Снедаемая тоской, героиня впадает в депрессию, падает в глубокие обмороки при виде берёзок над речкой, ив плакучих и неплакучих, и прочих внешних и внутренних раздражителей.
Ещё принято считать, что ностальгируют только русские, у них, у русских, вообще всё сложно, они страдают по каждому поводу – такова особенность загадочной русской души, она без страданий не может.
А знакомый мой и вовсе утверждал, что ностальгии не существует. А блажь и скука лечатся просто: сел в поезд или в самолёт – прилетел или приехал в то место, о котором тоскуешь, и всё – исцелён.
Но русские не одиноки в своих ностальгических страданиях, португальцев, к примеру, тоска о родине, о прошлом, о судьбе, побуждает слагать печальные нежные песни, волнующие и рвущие душу – фадо.
Жермон поёт о своём прекрасном и далёком Провансе так, что с первых слов понятно: ностальгия.
Ты забыл край милый свой,
Бросил ты Прованс родной,
Где так много светлых дней
Было в юности твоей…
У моей ностальгии горьковатый привкус осени.
Осени туманной, тёплой, в которой даже самый пасмурный, самый серенький денёк освещён «неопалимыми купинами» берёз и осин.
Все скептические ухмылки о берёзово-осиновой банальности несостоятельны – нет банальностей в нашей жизни. Несмотря на то, что вся она – от рождения и до смерти – сплошная банальность. И осознавать эту премудрость начинаешь только тогда, когда неясная грусть коснётся тебя, и сердце начнёт сбоить при виде берёзовой рощицы на пригорке.
Но попробуй-ка, напиши о том, что в осенних сумерках, в открытую тобой книгу упал кленовый лист.
О-о-о-о!
Банально, избито, затасканно…
Это, пожалуй, самые безобидные эпитеты, коими вознаградят тебя критиканы-всезнайки.
А ты стоишь, держишь этот лист на ладони и чуть не плачешь от счастья – это не с кем-то, это с тобой случилось – и значит, имеет право на жизнь.
Томик стихов Тарковского, купленный здесь же, неподалёку, при выходе из метро, на книжном развале у Чистопрудного бульвара, открыт, и в нём лежит кленовый лист, ещё одна банальность – не многовато ли за один день? Или за одну жизнь…
А завтра, да что там – завтра, уже через минуту всё будет не так, и стой ты хоть битый час под этим клёном, держа в руках томик Тарковского, никакой лист и не подумает упасть.
Такое случается неслучайно….
Лучшей закладки для стихов, чем маленький кленовый листок, вряд ли можно себе представить.
Я – в Москве, конечно же. В московской осени, если быть более точной.
Мне её подарили, эту сумасшедшую московскую осень, подарили друзья, сами не подозревая, как по-королевски роскошен и блистателен оказался этот подарок.
Как можно подарить осень, да ещё московскую, скажете вы.
Можно, ещё как можно!
Она, эта осень, теперь не просто со мной, она во мне. И будет во мне и со мной всегда…
Несколько лет назад мы подарили сыну три дня в весеннем Крыму. Он не очень хотел ехать куда-то в свой день рождения, он вообще не очень любит куда-то уезжать из дома.
Вернулся, вдохновлённый весенним Коктебелем и Волошиным: «У нас есть его книги?»
«Есть, конечно, и его и о нём…»
Разглядываю фотографии из той поездки и слышу:
– Как я вам благодарен за этот день рождения. Надо мной – небо, подо мной – море, мне двадцать лет!
Подарки бывают разные, дорогие и не очень, причём, дороговизна их со стоимостью никак не связана, практичные и бесполезные. Подарки можно съесть, выпить, износить, выбросить…
О них можно забыть.
Но есть подарки, которые остаются с человеком до конца его дней – до его «навсегда».
Они согревают в холод, с ними легче переносить зной, они прорастают стихами, плещутся крыльями за спиной…
Волошин любил «дарить людей друг другу» и научил этому Марину Цветаеву: “Разве ты не знаешь (глубоко серьёзно), что можно дарить людей – без их ведома и что это неизменно удается, то есть что тот, кого ты даришь, становится неотъемлемой духовной собственностью того, кому даришь.» ( Марина Цветаева «Живое о Живом»).
Подаренная мне московская осень – это несколько тёплых, туманных и дождливых дней, стихи, таинственная тишина театрального зала, палая листва и туманное серебро декораций перед началом «Осенней сонаты» Бергмана в «Современнике», встречи, расставания, маленькая речка Яуза за домом, самым тёплым и уютным в Москве…
* * * * *
Взгляд третий: ощущение чужести, «…прощай, Садовое Кольцо…», снова – Одесса, от Патриарших – до Гранатного, Шапировские вечера, ностальгия…
Хожу по улицам и бульварам, вдыхаю горьковатый запах мокрой, палой листвы, вглядываюсь в лица людей, домов, памятников…
 Я и здесь чужая. Я – инородное тело, живущее по каким-то своим, странным законам, вернее – без них.
Я и здесь чужая. Я – инородное тело, живущее по каким-то своим, странным законам, вернее – без них.
Я не умею делать «так, как все», устраиваться и пристраиваться, ходить строем, петь хором, льстить, поддерживать отношения с нужными людьми – я жуткая неумеха, я не умею жить.
Я хожу по встречным полосам и вижу многое, порой такое, чего вовсе не хотелось бы видеть.
Меня передёргивает от слова «подруга», мне куда ближе слово «друг»: им может быть город, море, кошка, камень, дерево, орхидея, им может быть мужчина, женщина, ребёнок. Им может быть птица.
Я не скрываю свой возраст, я не озабочена проблемами лишнего веса и мимических морщин, пыльной квартиры и прочей дребедени.
Расплата за всё это неумение – одиночество.
… Но здесь не это выделяет меня из шумной, бегущей, многоликой людской реки.
Потоки её устремляются в разных направлениях, иногда сливаясь в один на несколько мгновений, чтобы вновь разделиться на тоненькие струйки.
А я не принадлежу никому – я никуда не спешу, мне абсолютно всё равно, в каком
направлении плыть и с какой струйкой смешиваться. И это бросается в глаза.
Я – в метро.
Несмотря на то, что Москва чудовищно, невероятно огромна, заблудиться в ней практически невозможно. Если ты в метро – то там всё просто и понятно, благодаря схеме; разноцветная схема – «паутина» – висит в каждом вагоне, и направления-паутинки простираются во все стороны от сердцевины Москвы.
Если же ты на поверхности… ищи буку «М» – вход.
Спускаясь туда, всякий раз вспоминаю старое, любимое, чёрно-белое кино и песенку из него « …иду, шагаю по Москве..» и поэта, который написал стихи к этой песенке и много других стихов, из которых тоже получились замечательные песни.
Будучи студентом ВГИКа, он с друзьями поклялся: если к возрасту гибели Пушкина, то есть к 37 годам, они не смогут достичь его славы, то покончат с собой.
Из всех только он сдержал клятву.
Имя этого поэта – Геннадий Шпаликов.
Здесь, на Садовом кольце, звучат его стихи, надо только прислушаться…
Я вижу вас, я помню вас
И эту улицу ночную,
Когда повсюду свет погас,
А я по городу кочую.
Прощай, Садовое кольцо,
Я опускаюсь, опускаюсь
И на высокое крыльцо
Чужого дома поднимаюсь.
Наверное, мой праздный и отрешённый вид вызывает неодобрение у…
Впрочем, здесь никому нет дела ни до кого, и до меня – тем более. Мало ли заезжих зевак с открытым ртом ходит по Москве, натыкаясь на вечно спешащих и озабоченных москвичей.
Это одесситы никуда не торопятся – у них всё под рукой. И Привоз – шумный, пёстрый, аппетитный – рядом, и компактный, удобный Новый рынок, а по выходным – Староконный, этакий местный вариант старейшего блошиного рынка Парижа – Marche aux puces de St-Ouen, где можно купить всё, что душе угодно, из разных времён и эпох, из разных материалов, порой – за баснословно дорого, порой – за сущие копейки.
Всё рядышком в Одессе, всё мило и уютно, а если и нужно совершить переезд длиной в пару станций московского метрополитена, то это уже посёлок Котовского. Или – посёлок Таирова.
Вероятно, вальяжная эта неспешность и придаёт одесским улицам уникальный и неповторимый колорит.
И правда. Куда спешить-то?
К морю?
Так вот же оно. Стоит только выйти на улицу Черноморскую, спуститься по старой лестнице, сквозь заросли диких абрикосов, яблок, акаций, и вот уже слышно, как оно дышит – море…
… Такое случается. Пишу о ностальгии, об осенней Москве, о том, что здесь запросто на Чистопрудном бульваре может «лист пятипалый» в книгу лечь, и оказывается, что уже исписана целая страница и посвящена она Одессе.
Да что там – страница. Одессе посвящены многие мои стихи, герои моих повестей и рассказов живут в этом городе. Да и сама я живу в нём, а значит, и жизнь моя принадлежит ему, городу, так непохожему на все другие города, в которых мне доводилось бывать.
Но я – в Москве.
Более того – я на Патриарших. Теперь, правда, октябрь, и сквер устлан палой листвой, и дождь только что кончился – от него листва тяжелеет, не разлетается по бульвару, а тихо и мирно лежит под ногами.
На какой из этих скамеек обычно сидят поэты бездомные?
Кот – самый обычный, серенький, полосатый, возник неизвестно откуда, мурлыкнул что-то на своём кошачьем и побежал дальше – недосуг ему со мной, у него свои дела – он же московский кот, не будем забывать об этом.
А у меня сегодня, как ни странно, – свои.
Отсюда – с Патриарших – наугад, через незнакомые переулки и улицы – иду в Гранатный переулок. Иду на поэтический вечер: открывается очередной сезон Шапировских вечеров, и я приглашена на открытие моими друзьями – московскими поэтами.
Иду, ведома каким-то внутренним чутьём. Оттого ли, что я когда-то уже ходила здесь, или же в силу каких-то других, неведомых мне причин, иду уверенно и довольно быстро.
Может… кто-то меня ведёт, не давая оступиться и сбиться с пути.
Спокойно, будто делала это всю свою сознательную жизнь, сворачиваю в переулок и на минутку останавливаюсь, раздумывая: сюда ли…
Нет. Свернуть нужно чуть позже.
Сворачиваю – и вот он: Гранатный, и до Центрального Дома Архитектора остаётся несколько шагов.
Самое интересное во всех этих хождениях то, что если бы меня сейчас кто-то попросил повторить проделанный мной путь – я и шагу бы не ступила по той простой причине, что не знаю куда идти. Словно и не я шла здесь так уверенно всего лишь четверть часа тому назад.
Что или кто ведёт нас в некоторые моменты жизни…
Обычно, мы не задумываемся, а просто идём, и только потом понимаем, что были ведомы, пытаемся объяснить себе, почему шли именно этой дорогой, заходили именно в эти подъезды и двери. Или… не заходили.
Минутой раньше, пока нас здесь ещё не было, могло случиться что-то невероятное, но не случилось. И уже не случится никогда. Мы не успели? Не там свернули, вошли не в те двери…
Но этим вечером я, всё-таки, войду в нужные двери, и в «урочный день, в урочный час» начнётся вечер – два часа чистейшего времени проносятся как две минуты, но вмещают в себя столько всего: стихи, взгляды, лица, знакомые, ставшие почти родными, и незнакомые, песни, разговоры…
И здесь время течёт иначе, каждая минута, наполненная стихами, перестаёт быть обычной, привязанной к земному.
Одесский подарок «Шапировским Вечерам» – их душе и вдохновителю Марине Шапиро – первый номер одесского литературного журнала «Южное Сияние» – наша первая «ласточка», вылетевшая из гнезда немногим более года тому назад и уже облетевшая полмира. И я с радостью дарю этот номер, тем более, что в нём есть и частичка моего труда и моей души.
И вновь Москва, на этот раз уже Москва ночная…
Возвращаюсь в дом, который не раз становился моим добрым приютом в Москве, за которым бежит себе неторопливо куда-то речка Яуза – это дом Надежды Бесфамильной – замечательной московской поэтессы, с удивительным, свойственным только её стихам, русским языком – с настоящими жемчужинками-перлинками – исконно русскими словами, вкус которых почти утрачен нами ныне, забыт, как вкус родниковой воды.
Возвращаюсь, не слыша и не видя ничего происходящего вокруг – я переполнена стихами, песнями, лицами, голосами.
Переполнена Москвой – ночной, дождливой, туманной, тёплой…осенней.
* * * * *
Взгляд четвёртый: улицы старой Калуги, после «Карнавала», вездесущий пластик зимние рамы,, граффити, Оптина Пустынь…
… Мне не показалось – их действительно стало ещё меньше, маленьких деревянных домиков с резными, кружевными наличниками, с палисадниками – такие домики для меня и есть Калуга настоящая, хотя всё чаще приходится осознавать, что прошлая.
Первый этаж – кирпичный ( здесь говорят: каменный), второй – деревянный – так строились дома в русских, преимущественно северных городах, так застроена и старая Калуга.
Старо-Мясницкая, Горшечная, Ямская, Трубянка ( где-то здесь течёт заключённая в трубу речка Городянка), Смоленка – старые названия калужских улиц отзываются эхом во мне, хранимые памятью, доставшейся мне в наследство от предков, живших на этой земле издревле.
На Смоленке домик, покосившийся и обветшавший, рядом – колонка…
По этой улице мчалась на роликах оголтелая героиня Ирины Муравьёвой в старом, любимым многими фильме «Карнавал».
Из этой колонки пила воду. С вокзала Калуга-2 ( в фильме это вокзал Оханска, города, в котором, кстати, вокзала нет..) уехала за большой девчоночьей московской мечтой и сюда же вернулась, притихшая и повзрослевшая. Ей повезло меньше, чем героине Веры Алентовой в другом любимом многими фильме.
Здесь ещё много таких домиков, но много уже и новостроя, который, как и всё новое – нагловат и груб, и они – домики, натиска этого молодого и наглого не выдерживают.
Новострой эклектичен до пошлости, до абсолютного безвкусия. Основной принцип:
«по-богатому», так чтоб состояние банковских счетов видно было снаружи.
Но есть редкие и приятные исключения: хорошая архитектура, благородные формы, приятные глазу краски, завораживающая простота – читай – элегантность.
Дальше – вдоль Набережной, где на склонах цветут безумные ромашки и одуванчики; на них прилетело несколько таких же безумных пчёлок – конец октября, а им хоть бы что – сидят себе, сонные, ленивые, и, несмотря на солнечный денёк, немного озябшие – вон как жмутся друг к дружке.
Старая полуразрушенная лестница усыпана листьями.
Сейчас она ведёт в никуда, а раньше..
А раньше по ней ходили часто, спускались и поднимались – вон как вытоптаны ступеньки, выкрошены, выбиты. И сплошь устланы палой листвой.
Калуга – град-птица – широко раскинула свои крылья: Правобережье (Правград) и Левобережье, по обе стороны Оки – сердечной артерии этих мест. А есть ещё речка с ласковым, тёплым названием – Яченка, её превратили в огромное водохранилище.
А ещё – речка Калужка – малая кровиночка Оки.
Гамаюнщина. Древнейшее название Правграда. То ли люди шумные да «гамные» жили в этих княжеских Ромодановских двориках, то ли птицы Гамаюн слетались сюда на гнездование.
Здесь находится одна из старейших церквей Калуги – Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Вообще, от названий церквей веет чистотой, исконно русским православием: Церковь во имя Святых чудотворцев Косьмы и Дамиана, Церковь Покрова на рву, Георгиевская церковь «за верхом», Церковь Спаса «за верхом»…
Если в Москве для меня ориентиром служили буквы «М», то в Калуге – купола церквей. Их видно отовсюду, и в каком бы районе города вы ни находились бы, всегда можно сориентироваться по сияющим маковкам и колокольням.
И нет «церквей» новых, – дух православия русского здесь, в Калуге, чист и силён.
Через весь город, утопая в осеннем солнце, в позолоте берёз, клёнов, в багряном восторге лимонника – к Каменному мосту, огромному старому – самому большому виадуку России.
Но меня ждёт разочарование: благородная кирпичная кладка тёмного старого кирпича – арочные опоры моста – оштукатурена и выкрашена в «приличный» белый.
Ладно, что ж поделаешь…
Набившая оскомину стилизация под «евро» – всё должно быть гладким, прилизанным, оштукатуренным и безликим.
Читаю в местной газете, что планируется ещё и Березуевский овраг, через который перекинут оный мост, расчистить от зарослей, облагородить.
Не хочется увидеть там, на дне этого оврага, вместо фантастических зарослей, которые могут поспорить с любой сонной лощиной, особенно – в туман, аккуратные клумбы с цветочками. Что за странная тенденция всё прилизывать ?
Впрочем, теперь белить мост придётся часто – неукротимые уличные художники уже успели оставить здесь свой след. Эти граффити, мало чем напоминает наскальные рисунки в Альте, в пещере Альтамира, на скальных выступах Кольского п-ова, но произрастают оттуда – из глубокой древности.
Не знаю как древние наскальные, а вот современные настенные рисунки доставляют немало хлопот коммунальным службам. Да и, по правде сказать, в большинстве своём ценности они никакой не представляют. За исключением очень и очень немногих, да ещё тех шедевров, которые создают современные мадоннари.
В Одессе не так давно работники коммунальных служб решили этот наболевший и изрядно надоевший вопрос по-своему – дёшево и сердито. Знаменитая колоннада Воронцовского дворца была выкрашена в зелёный цвет и сразу же отяжелела, утратив свою воздушность и невесомость, своё свечение.
Зрелище удручающее…
Но, к счастью, зелёной она побыла недолго – всего несколько дней. Начальники коммунальных служб опомнились ( получив нагоняй свыше), и вместе с белым цветом эффект лёгкости и «воспарения» вернулся к колоннаде, а наутро на колоннах уже красовались граффити.
О благородной темени старинной кирпичной кладки моста я буду тосковать, и только один факт служит мне утешением – подлечили мост, подлатали. И на том спасибо…
Осталось подождать совсем немного, каких-то лет… двести, и белизна спадёт сама собой, и благородная темень проступит сквозь безликость и несуразицу.
А с нелепостью приходится так часто сталкиваться, что волей-неволей привыкаешь и уже не так болезненно на всё реагируешь.
По дороге из Калуги в Козельск дома, всё больше деревянные, обычные для этих мест, русские дома. Бревенчатые срубы обшиты тёсом, выкрашены, окна в резных наличниках: от самых простеньких до кружевных, самых причудливых форм. А оконные рамы сплошь и рядом… стеклопакеты.
И слов нет, чтобы передать всю чужеродность пластиковых окон.
Неужели и здесь нет дерева в достатке?
Или рук нет мастеровых – перевелись. Сплошь и рядом юристы да менеджеры с мерчендайзерами.
Тоже мне, идеалистка…
А сама-то ты, что?
А сама-то я ничего. Живу в самом сердце Одессы, в очень старом доме, его «родные» оконные рамы полностью износились, и пришлось поставить пластик – а куда от него денешься…
Окна в старых домах огромные – столярка новая стоит баснословно.
Вероятно, и здесь основная причина отказа от деревянных рам – их высокая стоимость.
По окнам можно многое узнать об обитателях дома. Окна – глаза дома, и как выглядят эти глаза снаружи, так же, зачастую, выглядит и сам дом внутри.
Я люблю разглядывать их, представляя себе жизнь там – в чьём-то заоконье.
Особенно хороши вечерние окна, в которых зажигается свет…
И с какой-то особой тоской вспоминаются двойные деревянные рамы в старом бабушкином доме.
Осенью их: и первую, и вторую – тщательно мыли. Насухо вытирали. Промежуток между ними выстилали ватой, украшали гроздьями рябины, сыпали конфетти, а кто-то и игрушки ставил – куколок маленьких, зайчиков, мишек – кто на что горазд.
Затем вставляли вторую раму – зимнюю – утепляли, щели затыкали мхом, пенькой, ватой, оклеивали газетной или же белой резаной бумагой.
И сразу в комнатах становилось теплее и тише, уличные звуки замирали до весны.
А по весне, когда становилось совсем тепло, зимнюю раму вынимали, мыли и убирали на хранение до холодов. И чувствовалась весна: улица теперь была совсем близко, становилось светлее, просторнее, и сам воздух казался прозрачнее, чище.
Морока, скажете?
Наверное, морока. Со стеклопакетами проще, удобнее.
И… как-то совсем без эмоций. Пластиково.
Дух этот – пластиковый – уже не выветрить, не изгнать ничем.
Может, потому и у яблок, что продают на уличном базарчике, тот же самый, «пластиковый» дух, и сколько ни убеждает меня розовощёкая девушка, что это «…настоящая антоновка, чего ж вам ещё надо…», я ей не верю – яблоки эти антоновкой и не пахнут, хотя, внешне очень и очень похожи на те, что поспевали в бабушкином саду и по осени клонили ветви яблонь до самой земли, и благоухали на чердаке всю зиму.
А может, это и есть современная антоновка, и не нужно ждать, что яблочко это будет пахнуть так же, как то, из детства. Выветрился дух-то поди, за столько лет…
Ведь нынче внешнее полностью заменяет внутреннее, форма и формы – содержание, и с надписями на упаковках, гласящими «ароматизатор идентичный натуральному» и «заменитель вкуса идентичный натуральному», мы смирились.
Вот и вид деревень русских всё больше «идентичен натуральному» – не до содержания, времена не те. Всё внешнее, показушное, и такая она почти вся – российская глубинка – неглубока, без глубины.
Может быть, так оно лучше – люди и сегодня живут здесь в тяжелейших условиях. Пускай будет им легче, только не легковеснее бы.
Маршрутный автобус останавливается, и моему взору открывается место, которое являет собой такую глубину, что становится стыдно за свой каламбур о «неглубокой глубинке».
Нет, не обмелеет, никогда не обмелеет.
…. Оно не поражает, не удивляет, а как-то сразу согревает и успокаивает, в самом названии его слышится покой и мир. Октябрьский день прохладен и светел, от открывшегося вида дух захватывает, колокольный звон плывёт окрест.
Оптина Пустынь.
Что происходит со мной, объяснить трудно, да и вряд ли нужно объяснять. Что-то невероятно знакомое пробуждается, до слёз родное – детское, спящее глубоко в душе, и в то же время новое, неизведанное.
Осторожно ступаю по дорожкам обители, медленно-медленно.
Не потому что никуда не спешу, нет. Здесь как-то сразу понимаешь, что спешить, собственно, некуда. Что, если и есть на свете места, куда нужно спешить, то это только такие, как это. Каждого приводит сюда Господь своим путём и в своё же время, опоздать сюда нельзя, и если не суждено было прийти – так тому и быть. Трудно это понять и принять, ещё труднее смириться, но всё это от мятежного человеческого духа…
В часовне, где покоятся тела убитых в пасхальную ночь 1993 года, девушка с маленькой книжечкой ( молитвослов?) в руках, сидит на скамье у двери и шепчет, шепчет слова молитвы, и вздрагивает пламя свечи от её шёпота. О них молится, об убиенных?
Или о своём чём-то просит….
Мы с сестрой успеваем всюду и даже в чайную – выпить по чашке чая с отрубными лепёшками – их пекут здесь же ( вкус и аромат этих лепёшек забыть невозможно, наверное, это и есть истинный вкус хлеба).
В церковной лавке покупаем свечи – они источают тончайший медово-восковой аромат, ладан…
На старом кладбище чистота и порядок, как и везде здесь, и обилие цветов – конец октября, а здесь ещё цветут розы, не отцветают, а именно цветут.
И теперь не понимаю, как можно было столько всего успеть за такой короткий срок…
И сама же себя упрекаю в маловерии: если Господу угодно – успеть можно всё.
У иконы Амвросия Оптинского задерживаюсь надолго. Ставлю зажжённую свечу, прислоняюсь лбом к холодному стеклу.
Не то, чтобы прошу о чём-то, просто вспоминаю свою жизнь и вдруг… плачу навзрыд. Не жалуюсь, нет, просто плачу, как-то по-детски и ощущаю себя примерно так же – как ребёнок, потерявшийся и заблудившийся в темноте, но увидевший свет и идущий на свет.
Высокой нотой, спокойствием и смирением будет звучать в душе моей Оптина Пустынь, будто прикоснулась я к струне невидимой и неведомой мне ранее, чистой и тонкой.
* * * * *
Взгляд пятый: Таруса, первый снег, зимняя сказка…Одесса, живу в сейчас.
… Из Калуги утренней, неприветливой, сонной, румяной, морозно-первоснежной – в Тарусу, где в солнечном утре ещё невесомее кажется Никольский храм напротив автостанции.
 Несколько шагов до Набережной, где тонкой тёмной свечой на приокских ветрах стоит памятник. Она – Марина…
Несколько шагов до Набережной, где тонкой тёмной свечой на приокских ветрах стоит памятник. Она – Марина…
Сходство со свечой усиливают ступеньки-волны у босых ног, как оплывающий воск…
Впрочем, вблизи, у памятника, сходство это исчезает.
Может, воображение моё сыграло со мной шутку?
Уходя, оборачиваюсь. Нет – всё-таки, сходство со свечой есть и очень сильное.
Теперь – вдоль Оки, к Камню-кенотафу – серому тарусскому доломиту.
Мимо причалов, лодок, скамеек…Маршрут знакомый многим, кто бывал в этих местах.
Памятник на пути появился летом этого года – это памятник Константину Паустовскому.
Сказать по правде, памятники я не люблю. Ставят их нынче где попало и кто попало. И кому попало…
Да и за сами памятники порой бывает стыдно.
Но эти два – Цветаевой и Паустовскому – здесь, в Тарусе, оправданы и уместны.
Как и Камень в месте, о котором она – Марина – просила.
“Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева»” (“Хлыстовки”, 1934)
Прикоснуться, постоять молча, отпустив взгляд на простор, открывающийся отсюда, где синь небесная стекает в тёмную, прохладную тревогу Оки, вдохнуть горьковатый осенний воздух и выдохнуть: хорошо…
И – наверх, мимо старого храма Воскресения Христова, что на Воскресенской горе.
Идти по тарусским улицам одно удовольствие – дома деревянные, окна в резных наличниках – как красны девицы в кокошниках, коты на завалинках.
В Доме Тьо, где всё давным-давно знакомо и привычно, чувствуешь себя как …дома(?)
Каждая фотография, каждая книга, каждый предмет мебели и интерьера изучены до мелочей, и тем не менее, всё волнует, как впервые.
И в зеркало туалетного столика Марины – тёмноватое, тяжёлое от неимоверного груза отражений, живущих в нём, я гляжусь с замиранием сердца – всё как в первый раз.
И – как в последний.
В третьем переулке от дома Тьо – в самом конце его, над речкой Таруской стоит дом Паустовского, теперь это дом-музей, который открылся в мае этого года.
Сразу – за воротами – сад, осенний, всё ещё яркий: цветут астры, сентябринки, калина под окнами сочится капельками-кровинками, и всё это в золотом свечении листвы выглядит таким привычным, таким естественным и живым – не музейным, что кажется, вот-вот откроется дверь и в сад выйдет Странник, обретший свой приют здесь, в Тарусе.
И дверь открывается, но не он, а мы входим в дом, где всё просто и скромно; в рабочем кабинете две огромные чёрные печки – ещё помнят, как он растапливал их… книги, – их немного, но много света и воздуха.
А в крохотных жилых комнатках та же самая простота – до аскезы.
И неповторимый, особый дух витает здесь, в доме и в саду, дух, присущий тем местам, где жил этот удивительный человек.
В Старом Крыму, в Одессе, а теперь и здесь – в Тарусе – везде, где я бывала в музеях Паустовского, возникает ощущение огромного пространства, наполненного каким-то особенным, уникальным, присущим только этим местам светом; им пронизаны дома, сады, беседки, его источает земля, по которой шёл Странник – это и есть его светлый и добрый след, который живёт в его повестях и рассказах.
Они и сегодня учат жить, идущих по Земле, и любить эту Землю.
Коты… невозможно не сказать хотя бы несколько слов о тарусских котах, они заслуживают особых строк. Как и коты калужские, коты московские, коты одесские, как и любые другие коты – эта милая пушистая братия испокон веков живёт рядом с нами, но жизнь их полна тайн, и для человека многие её аспекты, по-прежнему, «за семью печатями».
И хорошо, что так.
Одного симпатичного котейку мне удалось подозвать и даже сфотографировать. Но от предложенного пряничка он отказался с достоинством, как и подобает коту – негоже кормить хищника чем попало.
Мы возвращаемся.
Молчим – слишком много хочется осмыслить, запомнить, сохранить, – не расплескать, да и столько всего уже сказано и рассказано, что хочется просто помолчать.
Умолкаю и я.
В тёмной тишине ноябрьского утра небывалый снегопад обрушился на Калугу и пригород, и превратил посёлок в сосновом бору, где живёт моя сестра, где я жила, в зимнюю сказку.
Скорый поезд увозит меня в Одессу, из зимней сказки – в сказку осеннюю – в Одессе тепло и идёт дождь.
Смотрю в вагонное заоконье и уже не думаю о том, где я: в прошлом, настоящем, будущем…
Всё это уместилось в три октябрьские недели, смешалось, стало каким-то особым, только моим временем, которого мне теперь хватит надолго, его ни много – ни мало, в самый раз, чтобы осознать: мы живём в «сейчас».
Об Авторе: Людмила Шарга
Людмила Шарга (Южнорусский Союз Писателей) Поэт, прозаик, публицист. Родилась в России. Живёт и работает в Одессе. В настоящее время возглавляет отдел поэзии в литературно-художественном журнале «Южное Сияние». Журнал основан в 2011 году и является официальным печатным органом Южнорусского Союза Писателей. Редактор сайта, основатель и ведущая творческой гостиной «Diligans». Публикации: в Одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008), в альманахах «Меценат и Мир. Одесские Страницы» (2008, Москва), «ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» (Луганск), «Провинция» (Запорожье), «ОМК» (Одесса), в журналах «Южное Сияние» (Одесса), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Ренессанс» (Киев), «Арт-Шум» (Днепропетровск), «День и Ночь» (Красноярск), в газетах «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), «Интеллигент», в интернет-журналах «Авророполис», «Гостиная», «45-я параллель», «Ликбез» и др. Автор сборников прозы и поэзии «Адамово Ребро» (2006), «На проталинах памяти» (2008), «Билет в осенний день» (2010), «Рукой подать...» (2011), «Повесть о падающих яблоках» (2013), «Яблоневые сны» (2014), «Ночной сюжет новостей» (2015), «Невыдуманные рассказы о настоящем» (2017).

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы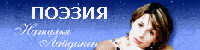 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО


Дорогая Людмила, спасибо за эти взгляды на мир-жизнь-время. Пишу через дефис, как пишется пространство-время в теории относительности. Ибо мир, жизнь и время неразделимо переплетены. И осознать себя в этом мире-жизни-времени, да так осознать, чтобы и с другими живыми мирами поделиться, удел немногих. Спасибо за эти взгляды поэта. Пути наши во многом пересекались. В Одессе был всего один раз и всего несколько часов, но через много лет отзвался рассказом. Особый, безвременный, катящийся ртутью мир поезда – тоже знаком. Недавно писал об этом. Чистые Пруды – страна моего детства… Патриаршие Пруды… Сердце болит. Спасибо.
Спасибо Вам огромное – Вы увидели то, о чём я хотела сказать, то, что виделось мне в дороге и после неё.
Вдвойне радостно узнать, что “болевые точки” имеют свойство совпадения.
Тепло и благодарно, Людмила.