АНДРЕЙ ГРИЦМАН ● «СОЗДАТЬ СВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ» ● ИНТЕРВЬЮ
 – Андрей, я рада приветствовать тебя в нашей Гостиной. Ты стоял у истоков её появления и являешься одним из старожилов нашего виртуального пространства. Перечитывая то, что ты писал о себе тогда, в Гостиной 1995 года, мне захотелось несколько вопросов задать именно в связи с твоими тогдашними взглядами. Начнём с этого (цитирую):
– Андрей, я рада приветствовать тебя в нашей Гостиной. Ты стоял у истоков её появления и являешься одним из старожилов нашего виртуального пространства. Перечитывая то, что ты писал о себе тогда, в Гостиной 1995 года, мне захотелось несколько вопросов задать именно в связи с твоими тогдашними взглядами. Начнём с этого (цитирую):
“Пожалуй, две вещи в настоящее “смутное время" и имеют значение: талант и человеческое достоинство. Даже, как бы, в старомодном смысле, — воспитание.”
Теперь, когда многое, к чему ты стремился, свершилось, можешь ли ты сказать, что не отступал от этих изначальных принципов? Сложно ли было придерживаться их? Были ли компромиссы?
– Вера, я тронут и даже потрясен, что у вас все это сохранилось с 1995 года. Боже, почти двадцать лет! Я согласен с тем, что сказал в 1995 г., но могу и добавить. Мы, очевидно, говорим о поэте, художнике и его/ее отношении с окружающей средой. Да, талант необходим, без этого вообще не о чем и говорить. Вот, что с ним делать – это другой вопрос. Ну, и достоинство, и, кстати, воспитание. Это звучит странно, но уже давно снизилась или потеряна культура разговора, общения, принципы профессиональных отношений. Талантливых людей немало, но многие из них «шпана», потому и кичаться собой, назначают себя и приятелей гениями и т.п. Вам это все знакомо. В Серебряном веке и до него, несмотря на богемность, так себя все-таки не вели. И потом этот стиль поддерживали интеллигентные недобитки советской эпохи. Вот, пример, Есенин и Маяковский – насчет дарования все ясно, а стиль…
Теперь важный момент, я хотел бы добавить. Кроме дарования нужна личность поэта. Это страшно важное сочетание. Вот это все совпало в Бродском, и результат известен. Я знаю немало авторов, и некоторые весьма известные, которые версифицируют блестяще, а вот с личностью, с «персоной», так мелкотравчато всё. И потом, в дальнем свете фар это становится видно.
– Приходилось ли идти на компромиссы? На мелкие и местные – скорее да, чем нет.
Я человек общественный – выступления, публикации, журнал, в конце концов, то есть приходилось адаптироваться как-то. Здесь лучше привести пример американский – честного бизнеса. Основной принцип дела не нарушается, но в процессе ведения дела приходится negotiate, переводить разговор в сферу деловых отношений. В большом нет – не припомню каких-то постыдных компромиссов.
– Говоря о компромиссах, признаёшь ли ты компромиссы в творчестве? Как они, по-твоему, сказываются на художнике?
– Тут я не очень знаю, как ответить. Та сфера, в которой я живу, – стихи, странная проза, эссеистика не требуют компромиссов. Это, может быть, вопрос из советского времени. А писать так, чтобы нравилось, было популярным, куда-то подходило, я не умею, да и непонятно зачем. В целом, наверняка, компромиссы очень плохо сказываются на художнике. И, особенно по советскому времени, я знаю много примеров. А потом уже, если это пошло, – это скользкий путь. А по поводу стихов, я иногда говорю: стихи – это не литература, а разговор души, прости за выспренность. То есть, потом, когда профессионально сделано – становится литературой. Так что, создавать стихи с компромиссом, это какое-то органическое противоречие.
– Возвращаясь к твоей автобиографии в Гостиной, ты писал, что ценишь
“способность послушать других и попытаться у других найти зёрна, а не слушать только самого себя.”
Не это ли желание легло в основу Интерпоэзии, главным редактором которой ты являешься?
– Некоторых поэтов не интересует творчество других. Я же люблю читать чужие стихи, открывать авторов и новое в известных мне авторах. Основная идея создания журнала, который оформился лет десять назад, – это сказать свое слово, создать свой эстетический профиль. Вообще, это имеет отношение к типу личности. У меня, как и у тебя, кроме стихов, есть общественная жилка, то есть чувство, что ты за что-то отвечаешь, можешь сделать что-то свое. И вот, в области построения журнала поэзии, в Диаспоре, вдалеке от столичной тусовки, но при наличии сетевого пространства, мне казалось, что я могу сказать свое слово. Дело в том, что пространства для публикации многим хорошим авторам, не раскрученным, как это ни странно, в наше время не хватает. Я имею в виду профессиональное издание. И вот, высянилось, что это таки-да помогает поэтам. Открытие новых имен – особое удовольствие и важное дело для нас.
–Здесь мы с тобой удивительно совпадаем. Именно так и я чувствую, когда открываю нового талантливого автора. А каковы литературные цели и направление твоего журнала?
– Публиковать качественные живые стихи и короткую прозу, эссеистику, как прозу поэта. Поэзия поверх границ и культур. Попытка построить какие-то мосты между разноязычными поэзиями, путем переводов и совместных проектов, что нам, живущим много лет в другой культуре, сама судьба велела.
–Да, название «Интерпоэзия» хорошо отражает эту идею мостов. А каковы критерии отбора произведений?
– Критерии отбора, как и все в поэзии, интуитивные, но и основанные на опыте. Главное, чтобы было живое, не придуманное, не только сделанное. Есть редсовет, который рекомендует авторов и советует. Ежедневно с материалами работает редколлегия, и я всегда внимательно прислушиваюсь к их мнениям перед тем, как принять окончательное решение.
Важно заметить, что у нас нет какого-то идейного, политического или географического принципа, каковой есть у некоторых изданий. Например, публиковать только авторов Диаспоры, представить все лица эмиграции, так сказать, срез литературной или окололитературной культуры. Или только «своих», как бывает у клановых изданий. В этом смысле – мы элитное издание, для нас имеет значение только качество (естественно, по нашему субъективному мнению).
– Что тебе близко в поэзии как редактору, а что неприемлемо?
– То что мне близко, несложно увидеть пролистав страницы журнала – то есть, ближе всего лирическая поэзия, от души. Неприемлемо – заведомый, даже искусный, выпендреж, беллетристика, стихожурналистика и т.п.
– Ощущаешь ли ты разницу между стихами поэтов ближнего и дальнего зарубежья?
– Любой оригинальный автор плохо поддается классификации, помещения в какую-то группу. Но, в целом, да. Я давно считаю, что несмотря на то, что все мы пишем по-русски, где живешь, чем дышишь, что тебя окружает влияет на творчество. Особенно когда автор специально и искусно вводит особые орнаменты в свое творчество: азиатские мотивы в творчестве Шамшада Абдуллаева, Вадима Муратханова, Санжара Янышева, американские – у Алексея Цветкова, Париж – Александра Радашкевича. Примеров можно привести много.
– Разделяешь ли ты поэзию на русскую и русскоязычную? Правомочно ли такое разделение?
– Пожалуй что да. Но я бы сказал, точнее: российскую поэзию, московскую, сибирскую и т.д. И, скажем стихи русских американцев или русских узбекских или казахских поэтов. То есть – российская поэзия и русская поэзия Зарубежья.
– Как бы ты сам определил свою творческую эволюцию? Считаешь ли ты, что изменился с тех пор, как писал, например:
Помнишь: на берегу застывшей реки
замер человек.
Мёртвые трубы. Медленный снег.
По полотну поседевшей земли,
помнишь, плывут города-корабли.
Где-то за краем стран и времён
дальнего поезда стынущий стон.
Сон остановленный. Поздний звонок.
Весть ли, ошибка?
К окну подойдёшь:
вот и сочельник,
тропический дождь.
(«Бесснежный декабрь»)
– Спасибо, Вера, что помнишь, и за этот вопрос. Я бы сказал так: за двадцать лет внутренний ландшафт, что ли, не изменился, душа с ее мрачноватым, даже эсхатологическим видением (я определяю свой жанр как эсхатологическую лирику), та же. Но способы выражения, язык, изменились. За двадцать лет, мне кажется, я стал смелее, увереннее, что ли.
– Русло нашей беседы привело от разговора о стихах к стихам. Пожалуйста, поделись с читателями Гостиной своими новыми или просто важными для тебя стихами. А мы желаем тебе удач на всех поприщах и ждём новых встреч!
Интервью вела Вера ЗУБАРЕВА
________________________________
АНДРЕЙ ГРИЦМАН
СТИХИ 2013 ГОДА
* * *
Очнулся. Вещи переместились.
Тени повисли как части одежды.
Будто приснилось, что всё простили.
Все прояснилось, и стало, как прежде.
Кошачьей дугой надежда застыла,
а книги светились и тихо гудели.
Память повисла, как облако пыли,
в луче над загадкой раскрытой постели.
Тогда я проснулся, оделся, умылся,
вышел на реку и глянул на город.
Так же вспорхнуло затекшее сердце,
и распахнулся затянутый ворот.
И так я подумал, что вот, и живая
сквозит над рекой одиночества песня.
А клумба любви распускается к маю
всегда в красоте своей бесполезной.
* * *
за годом год, как снег идет,
или слова в поэме,
завален снегом переход,
но одинокий светофор
там мерзнет и поныне.
мы все вернемся на круги
у дальнего подъезда,
давно все отданы долги
и под симфонию пурги
мы снова будем вместе.
на тех путях, где души врозь
расходятся, и грустно
мерцает снежный купорос,
тяжелый снег из-под колес,
тогда молчит искусство.
и души, каждая на свой
уходят перекресток,
пустая трасса, но стиха
остался в воздухе пустом
газообразный сгусток.
* * *
Могла бы ты меня понять.
Мне эту чашу не поднять
и не испить. Уже нельзя мне.
Да я и сам себе не внемлю,
а так, болтаю невпопад.
Так получилось, так уж вышло.
Душа впотьмах чего-то ищет:
родных, в сортир ли дверь, стакан
с последней водкой, книгу, рощу,
застывшую под странным небом
языческих далеких стран.
Но я теперь, привыкнув к боли,
толкая лодку, сев на мель,
плету чудные разговоры
вокруг да около, на долго ль.
А рядом в майках рыщут воры
и жизнь похожа там на быль.
Такая быль, что нет развязки
узла, в котором скрыта суть.
Поднимешь голову – прекрасна
та жизнь – висит рассвет опасный
и стынет одиноко грудь.
* * *
И забудут и друг, и враг,
и себя уж пора забыть,
вон на западе почернел восток
и сидишь давно вне игры.
Но нельзя позабыть себя,
и дитя во мне – это ты,
мы не можем жить не любя
под наркозом до дурноты
друг без друга, как без судьбы
нам носить – острие насквозь
не для нас – "это надо бы",
нету выхода – чтоб поврозь.
так я врос в этот камень-жизнь
мы с тобой вдвоем в янтаре.
прилечу к тебе – подожди
через двадцать лет в январе.
* * *
Я беспаспортный, полупьяный
и давно уже кот безродный.
Космо пью, заливая раны,
но предпочитаю водку
в блади-мэри или в мартини,
на худой конец из стакана.
Где-то есть родимая метка
на душе, где фантомом рана.
Мы на слух пьем летучий воздух,
горный дух или океанский.
Пробормочем три слова наспех
и, глядишь, за окнами осень,
и спешить никуда не надо.
По кольцу мы на той конечной.
Вечер жжет фонари как свечи.
Никуда теперь не уедем,
нам туда уже не добраться.
В дальнем потустороннем свете
уплывет к тебе мое сердце,
и счастливо нам оставаться.
* * *
пришел не пьяный но хмельной
тебе сказал бы – по одной
давай еще и день закончим
но в одиночку не берет
как патина на оболочку
слова ложатся перед ночью
и снег упорно не идет
* * *
так присаживаясь у чужих столов,
выпить поесть, помолчать загадочно,
не забывая, что вечен кров,
что в пути еще та записка с нарочным
от нее – что уж все готово,
друзья собрались, и вино открыто.
да я уже там, скажи только слово,
сразу и брошу свое корыто.
но дверь не найти, хотя и пора мне,
пора поздняя и сроки просрочены,
смыло дождями строки на камне,
и от нее так давно ни строчки
* * *
не понимай просто принимай
как в приемном покое
так и жить будем, глядишь – на улице май
а в тумбочке Оле-Лукойе.
белье выдают по субботам
вот и шабат так отмечаем
летит моя тень по сугробам
потом отпаивают чаем
сказку на сон почитают
нальют от горла декокта
такое вот баюшки-баю
такое вот чувство локтя
тихо в приемном покое
белизна потолка и окон
что там снаружи теперь не знаю
жизнь все больше напоминает кокон
но слышу тепло, запах и шёпот
и все легче до предпоследнего вздоха
снится железнодорожная копоть
но и всплесками – римская охра.
* * *
Горечь переплавленную в слова –
плеснуть в лицо – умникам, умозрителям.
Тычется пьяная голова слева направо
в жизни цветной дурной телевизор.
Покажут картинку – как люди живут,
как едят легко, как медленно пьют,
собеседника уважают,
ублажают, градуса не снижают
чего-то жуют.
Что ж, мы-то с тобой уроды,
пьем настойку на травах
нам только известных,
на бессловесном бреде
на падежах, корнях бесполезных.
Никуда нам нельзя, но есть место родное.
Снег тихий идет на дорогу в долине.
Там нас ждут, то есть, мы – друг друга.
Съемная комната, кровать, надежда.
Вот так и живем, идем по кругу.
На жизнь за окном – снег падает свежий.
Голоса нас зовут,
но все реже и реже.
* * *
есть ли ты или тебя нет
может это неважно
птицы уходят в дальний полет
и не возвращаются
что их там ждет?
море ли, небо, темный провал
белые глыбы
метка свободы?
так траектория дальней души
станет как точка на ткани
ты выздоравливать не спеши
рано той ране…
* * *
Что же все это значит?
Сердце ищет воздушную яму,
Полет продолжается.
Пока напитки разносят, пока сердце бьется.
Пока мир построен на боли.
А моли что? Слепо в шкафу ныряет.
А мы все ждем встречи на воле,
в полете, под часами, под солнцем.
Но климат странный – моста не видно.
Все покрыто облачным ожиданьем.
Встаешь с утра – и как на заданье
Снова в поиск.
В сгоревшее зданье.
Идешь по комнатам – что-то осталось.
Старые письма, бутылка, на донце,
То тут, то там проглянет солнце
и снова – свет от внутренней лампы.
Сколько можно любить на свете?
Сколько комнат в доме?
Забыл где вход, где горы в окне повисли.
На расстоянии – ее лицо
в воздушном проеме,
и блики света – обрывки песни.
ТАМ, ГДЕ Я ХОТЕЛ БЫТЬ
Однажды я оказался там, где всегда хотел быть. Вернее, я туда собирался, так как понял, где я хотел бы быть. Вернее, я представил, что теперь я знаю где. Но раз наконец-то я понял, где я хотел быть, не с пустыми же руками туда являться. Там меня наверняка ждут все, с кем я хотел бы быть – в нужном месте, в нужное время, то есть всегда. Так что я решил подготовиться: запасся любимыми нью-джерсийскими помидорами, крупные такие, тверденькие, с морщинами и сухим хвостиком, мохнатенькими персиками, фермерским хлебом с кунжутными и маковыми зернышками, согнал по этому случаю живот и придал своей физиономии ироническое выражение со скрытым оттенком вдохновения. Дорога туда, где я всегда хотел быть, оказалась проще, чем я ожидал: мелколесье, сухие овражки, затвердевшая межа, полевой полустанок, короткий перегон, а там от станции – рукой подать. Так что оказалось – это место совсем не там, куда Макар телят не гонял, как меня предупреждали злые языки. На месте оказалось, что кое-кого уже не было, а кое-кто еще не появился, а кто и был – уже чего-то наелись, выпили, отвалились и как-то отплывали в разговоре. А те, которые заметили мое присутствие, или даже меня ждали, с четырех сторон завели ту же шарманку: мол, я тебе говорила – всегда не там ищешь, чего тебе еще надо, ну и живи как хочешь, сам создаешь свои…и прочие обиходы такого разговора. Мне, как обычно, все это быстро наскучило, но куда дальше идти, я толком не знал. Потому пошел куда глаза глядят, вдоль путей, мимо станции, мимо лотков с помидорами, вдоль пригородных вагонов, в которых уже сидели все, с кем свидеться не привелось. Оказался я на другой дороге – заколоченные склады и гаражи, груды ржавого металла, подслеповатые ларьки с пыльными фугасами кока-колы. И вот, в конце концов, я снова оказался там, где и был: ветер шелестит пустыми листками бумаги, журчит проточная вода, и остался один не съеденный мной помидор и свет из окна на том же месте на стене. Зато теперь я точно знаю, где я хотел бы быть. Вот я и говорю, что всегда лучше сделать, чем не сделать, попробовать, а не сидеть как болван и мечтать о том, где я хотел бы быть!
Об Авторе: Андрей Грицман
Поэт и эссеист, москвич, с 1981 г. живет в США. Автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной периодике (http://magazines.russ.ru/authors/g/gritsman/) и семи сборников поэзии и эссеистики (последние: «Вариации на тему», изд-во Время, Москва и «Голоса ветра», изд-во Русский Гулливер», Москва). Основатель и Гл.редактор журнала «Интерпоэзия» (http://magazines.russ.ru/interpoezia/). А.Грицман публикуется по-английски в американской, британской, ирландской периодике и является автором пяти сборников поэзии на английском (www.andreygritsman.com) Стихи включены в несколько международных антологий в США и Великобритании. Стихи переведены на несколько языков. В течение многих лет – ведущий популярной серии по международной поэзии в Корнелия Стрит кафе в Нью-Йорке. Живет в Манхэттене с двумя котами на берегу Гудзона.

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы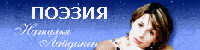 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

