ТАТЬЯНА КАСАТКИНА ● ГЛУБИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА КАК ОТКРОВЕНИЕ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА ● ЭССЕ
 Когда мы говорим: «глубокий человек» или «мелкий человек», «плоский человек», – что это значит? Когда мы говорим: «глубокий писатель» или «поверхностный писатель», – что это значит? Когда мы говорим о художественном произведении: «в нем такая глубина», – что мы имеем в виду? Как правило, мы не беремся объяснить свое ощущение. А ведь такое объяснение многое для нас прояснило бы и в природе человека и в природе его творчества.
Когда мы говорим: «глубокий человек» или «мелкий человек», «плоский человек», – что это значит? Когда мы говорим: «глубокий писатель» или «поверхностный писатель», – что это значит? Когда мы говорим о художественном произведении: «в нем такая глубина», – что мы имеем в виду? Как правило, мы не беремся объяснить свое ощущение. А ведь такое объяснение многое для нас прояснило бы и в природе человека и в природе его творчества.
Хотелось бы все же попытаться поговорить о глубине художественного образа, причем, поговорить не так, как это почти повсеместно случается – неопределенно, неконкретно, метафорически, эмоционально, когда выражение «глубина» предполагается, с одной стороны, как бы понятным по умолчанию, с другой стороны, – совершенно невозможным для уточнения. Хотелось бы попытаться говорить о глубине как об очень конкретной характеристике художественного образа, о том, как и за счет чего она создается. Если у нас получится – мы заодно поймем, хотя бы отчасти, – что такое есть человеческая глубина. Что такое «связь с бесконечностью» как определение природы человека[1].
Даже на первый взгляд очевидно, что сам разговор о глубине требует присутствия в образе второго плана, чего-то, во что нужно вглядываться, чего-то, о чем нужно догадываться. Требуется наличие чего-то, что не дано нам открыто, но, тем не менее, отчетливо присутствует, скрывается – и тем самым раскрывается первым планом образа. Очевидны и средства, соединяющие два плана образа. Это аллюзия, реминисценция, ассоциация – то есть намек, напоминание, сведение воедино каких-то удаленных друг от друга, на первый взгляд, вещей.
Это все более-менее ясно. Почему же, тем не менее, понятие глубины от нас ускользает?
Представляется, что проблематично, прежде всего, качество второго плана. Так, соотнесение персонажа с реальным прототипом способно резко снизить наше ощущение его глубины; способно вместо глубины добавить ему плоскости. И это, кстати, ставит серьезную проблему перед комментатором литературного или живописного произведения, сообщающим читателю сведения, не просто лишние для восприятия образа, но уплощающие этот образ. Сведение художественной сцены к текущим (в каком бы времени они не происходили), актуальным событиям создает памфлетность, заведомо противопоставленную глубине. Выявление исторического подтекста не создает глубины. Воспроизведение в портрете жеста, виденного в другом портрете, заставит говорит скорее о подражательности, чем о глубине. И так далее.
В чем тут дело? По-видимому, в том, что указанные соответствия находятся, на самом деле, в пределах одного плана, не выводят нас за пределы наличной действительности, действительности явленной. Оставляют нас в пределах того, что Ф.М. Достоевский называл «насущным видимо-текущим». Реальность и литература, реальность и живопись оказываются однородны с этой точки зрения, они не составляют сочетания планов – они работают одинаково, проявляя или не проявляя в явлениях (литературы или действительности) того, что не явлено, иного, внеположного наличной действительности. Художник же ищет именно иного. Александр Блок записывает в январе 1912 года, в разгар работы над «Возмездием» – исторической, казалось бы, поэмой: «Пока не найдешь действительной связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо на что-либо, кроме баловства, нужным»[2].
В первой главе знаменитой книги Эриха Ауэрбаха «Мимесис»[3], в которой сопоставляется гомеровский эпос с эпосом библейским (в последнем случае слово «эпос» нужно бы взять в кавычки), глубина очевидно появляется только тогда, когда, когда в повествование вторгается Бог, внеположный этому миру, принципиально неявленный в нем, являющийся лишь отчасти в каких-то его образах и событиях. Эти образы и события вполне принадлежат этому миру, но одновременно радикально преображаются таким явлением в них Иного.
Преображаются они, кстати, в библейской истории очень интересно – они становятся прототипами архетипов. Я имею в виду то, что известно как система ветхозаветных прообразов, предвещающих образы в их полноте, явившиеся в Новом завете. Прообраз – это когда дообразное, то, что впервые во-образится в Новом завете, входит из-за границ бытия в его пределы той своей частью, которая бытием может быть на этот момент воспринята. И эта часть будет потом узнаваться в Образе. Так, неопалимая купина – прообраз Богоматери, являет нам объятое пламенем вещество, не потребляемое этим пламенем, потому что Господу, чтобы существовать, нет нужды разрушать творение; творение, дающее Господу явиться, не подвергается при этом тлению. Неопалимая купина целиком входит в Образ Богоматери, становясь одним из аспектов этого Образа, но не уничтожается и не разрушается при этом как самостоятельный образ и даже обнаруживает способность оформлять собой Образ («Богоматерь–Неопалимая купина»). Образ здесь складывается из множества аспектов-прообразов, оказываясь, однако, не равным простой их сумме, но при этом – парадоксально равным каждому из них, целиком являясь в каждой своей части. Предъявление нам в библейской истории прототипов архетипа очевидно имеет воспитательное значение для человечества, открывая ему свойства архетипа, не знакомые ему из состояния мира вокруг него, так сказать – противоестественные свойства архетипа, знакомя его потихоньку с фундаментальным отличием Творца от творения. И, кстати, приучая обнаруживать в нас самих свойства Творца, а не творения.
Итак – глубина в образе появляется не тогда, когда повествование уводит нас в глубь времени (а сам Ауэрбах отчасти склонен рассматривать глубину как функцию историчности повествования), а тогда, когда оно уводит нас за пределы времени. Не тогда, когда оно отсылает нас к похожему, но тогда, когда оно отсылает нас к тому же – и одновременно совершенно иному – потому что это то же существует на другом плане бытия.
Пересказывая историю Авраама, Ауэрбах несколько раз обращается к моменту «явления» Бога Аврааму, которое очевидно чем-то поражает исследователя, но, каждый раз, интерпретируя сцену, он уходит от самого существа того, что сам же извлек на поверхность. Вот, например: «И в Аврааме тоже нет ничего конкретного, кроме слов, которыми он отвечает Богу: “Хиннени” (“Узри меня, увидь меня”), – ибо они подсказывают нам весьма выразительный жест, в котором и послушание, и готовность, но только уж читатель сам должен картинно вообразить его себе»[4].
Между тем, эта сцена, кажется, способна предельно отчетливо осветить те отношения, которые существуют между первым и вторым планом образа, создавая в нем глубину. То, что ускользает в ней от исследователя, сопровождающего реплику Авраама придуманным им «выразительным жестом, в котором и послушание, и готовность», то, что как раз и есть самое конкретное и небывалое в Аврааме – это поразительная, невозможная для Гомера, свобода Авраама от Бога. Боги гомеровского эпоса вполне бесцеремонны в своих явлениях, только от них зависит, где, как и когда явиться герою, они вторгаются в жизнь героя так, как это возможно только существам, которые, будучи иными, все же не иномирные, и им не надо просить права войти.
Богу Авраама надо «постучаться», чтобы мир Ему открылся.
Во всяком случае, ответ Авраама, традиционно переводимый у нас как «Вот я», – а на самом деле – «Узри меня», «Увидь меня» – это совершенно очевидно формула разрешения Богу войти в контакт с человеком, увидеть того, кого Он окликнул. Это «Узри меня» отсылает нас одновременно к двум ключевым местам Священного Писания. Во-первых, ко второй книге Бытия, где Бог ищет Адама и Еву, пожелавших спрятаться от Него после грехопадения. Ищет и не может найти.
Я уже не раз говорила об этом, но скажу еще – крайне наивно и весьма неосторожно было бы с нашей стороны понимать эти поиски Богом Авраама как некую игру в прятки взрослого с ребенком. Это не может – очень серьезно, и тут со стороны Господа нет никакой «игры», предполагаемой традиционным морализаторским толкованием этого места книги Бытия. Так же, как в начале творения Господь, вездеприсутствующий, «отступил», очистив, освободив место творению, так – до сих пор – Он входит в это место лишь с вольного соизволения Им сотворенного. Прежде всего, конечно, – с соизволения человека, созданного именно в качестве хозяина и работника в Господнем саду, в качестве посредника между Богом и тварью. Господь не посягает на свободу человека, не нарушает Своего образа и подобия в человеке, которые и есть – свобода. И потому если мы пожелаем быть скрыты от глаз Господних – мы таки будем от них скрыты (со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями, конечно). Потому что, как сказал один рабби: «Господь везде… куда Его пускают».
В связи с этим не лишним будет сказать два слова о названии моей книги о структуре образа у Достоевского, вышедшей в 2012 году в Италии[5]. Книга называется: «Dostoevskij: il sacro nel profano» (я бы перевела это как: «Достоевский: священное в повседневном»). Чтобы понять это название в соответствии с авторской интенцией, нужно иметь в виду, что профанное – это не то место или вещь, где никогда не было Бога, это не место, еще только ждущее своего освящения. Профанное – это место, которое было у Бога, но Он выделил его во владение человеку – так же как отец в истории о блудном сыне выделил сыну его часть наследства. Так это слово понимали и римляне, называвшие профанным часть жертвы, возвращаемой из владения богов для потребления человеку. То есть профанное – это место, помнящее, что когда-то и в нем обитал Бог, и жаждущее вернуть себе этот статус. Место тоскует по Богу – Бог тоскует по месту – но их разделяет отвернувшийся от Бога, уединившийся для своей отдельной жизни человек, которому это место отдано во владение. Таким местом после грехопадения на долгое время становится вся земля.
Авраам своим «Увидь меня» восстанавливает возможность присутствия Бога на земле, создает тоннель между этим и иным миром, сам становится дверью, которой входит Господь, чтобы действовать здесь.
Отсюда нам становится понятно значение молитвы Господней (единственной молитвы, дарованной человеку Христом), становится понятна необходимость ее постоянного звучания. Они – в том, что человек провозглашает волю Господа «на земле, как на небе» («Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли»), – то есть в том, что человек призывает и допускает Господа к действию на земле, в области творения так же, как Он может действовать «на небе» – в области Сотворившего.
Во-вторых, это Авраамово «Узри меня» отсылает нас к строкам Апокалипсиса: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20). И здесь нам говорится о том, что Господь не вламывается в нашу жизнь без нашего разрешения, без нашего приглашения.
Итак, образ обретает глубину, когда нечто ощутимо входит в него из-за границ времени и из-за границ мироздания. Но это нечто – не обязательно Бог. Очевидна, ибо непосредственно прописана автором, такая двусоставность образа, например, в следующем пассаже «Джейн Эйр», где описывается комната, в которой Джейн ухаживает за раненым Мейсоном, и среди ее обстановки – большой шкаф, чья передняя стенка разделена на двенадцать панелей, на которых изображены головы двенадцати апостолов, и над ними возвышается Распятие Христово: «<…> and anon the devilish face of Judas, that grew out of the panel, and seemed gathering life and threatening a revelation of the arch-traitor – of Satan himself – in his subordinate’s form»[6] («<…> и сразу вслед за ним – дьявольское лицо Иуды, которое вырастало из панели и казалось вбирающим в себя жизнь и грозящим явить главного предателя – самого Сатану – в одной из подчиненных форм»). А сразу после этого явленный в изображении «в одной из подчиненных форм» дьявол является в другой «подчиненной форме» – на этот раз в живой плоти – и это уже никак не выглядит метафорой: «Amidst all this, I had to listen as well as watch: to listen for the movements of the wild beast or the fiend in yonder side den»[7] («Окруженная всем этим, я вынуждена была не только видеть, но и слышать: слышать как шевелится дикий зверь или демон в своем логове» (имеются в виду доносящиеся до Джейн звуки из комнаты, где находится, как она предполагает, служанка Грейс Пул – в глазах Джейн – убийца и поджигательница)). Мы видим, что «подчиненной формой», способной явить в себе иномирное, могут быть как человек, так и художественный образ. Именно в отношении этой способности человек и художественный образ эквивалентны друг другу.
Такое видение, кстати, в масштабе всей западноевропейской культуры определило действия инквизиции – сжигать «подчиненные формы», то есть тех (или то – книги и картины), кто дал в себе приют дьяволу, сделал себя его пристанищем, вместилищем и орудием, сжигать их – как места вторжения дьявола в очищенный христианством мир. Не оправдывая действий инквизиции, необходимо обратить здесь внимание на серьезность и жизненность проблемы соотношения первого и второго плана образов – или первообразов и «подчиненных форм».
Не оправдывая действий инквизиции (а эти действия не могут быть оправданы даже чисто прагматически, ибо они оказались очень низкоэффективны, а если рассматривать их на протяжении достаточного времени – то прямо контрэффективны), их все же нужно понимать. Суть совершаемого ведьмой и колдуном, пожалуй, очень точно выражена в следующем месте популярного на протяжении веков сочинения Шпренгера и Инститориса «Молот ведьм»: «<…> можно заключить, что ведьмам для поражения скота достаточно лишь прикоснуться или бросить взгляд, а все остальное производит демон. Если бы ведьма не принимала в этом никакого участия, то демон не мог бы производить вредительства против созданий, как об этом и было сказано выше»[8].
Из приведенной фразы следует: во-первых, для совершения зла и нанесения вреда миру, для порчи творения демону необходимо сотрудничество человека; во-вторых, это сотрудничество может быть самым ничтожным, просто обозначением факта такого сотрудничества, то есть – просто человеческим разрешением на демонское вторжение. В памяти христианской культуры неизгладимо запечатлено: человеку дано уникальное достоинство (и это достоинство не отнято у него и после грехопадения) — быть хозяином и работником — садовником на земле, владельцем творения. И поэтому без соизволения и помощи человека (хотя бы просто как проводника иного влияния) ничто не совершается на земле. Н.В. Гоголь, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», только и писал о том, что человеку достаточно повернуть взгляд, раскрыть глаза навстречу добру или злу, чтобы впустить зло или добро в мир, так что те, кто читал Гоголя, могли бы это усвоить и без Шпренгера с Инститорисом. И ныне все чаще и чаще человек, пользуясь, давно уже зачастую бессознательно, этой своей великой властью, «подставляет» и «сдает» (как теперь говорят) творение. Вот это предательство (по каким бы причинам оно ни совершалось) по отношению к миру Божию и своим собратьям, это открывание ворот мироздания захватчикам и разрушителям и каралось светскими властями (ибо именно светской власти вручен меч для защиты границ) после того, как констатировалось инквизицией.
Из сказанного видно – человек может привести зло не только в свою, но и в чужую жизнь. Потому что люди – не отдельны, они связаны между собой гораздо теснее и непосредственнее, чем сами предпочитают думать. Но это одновременно значит, что и Бога человек может впустить не только в свою жизнь, но и в жизнь тех, о ком он молится. Молитва о другом – это наше позволение Богу войти и действовать в жизни этого другого. Вообще, мы постоянно функционируем как такие соединительные тоннели, очень мало, к сожалению, отдавая себе в этом отчет.
Возвращаясь к книге Ауэрбаха, обращаясь к эпиграфу, взятому Ауэрбахом к своему исследованию, можно сказать, что «world enough and time»[9] в деле создания глубины образа нам не помогут. Прототип – предшественник образа во времени, в «насущном видимо-текущем» – не создает глубины, ее создает только архетип. Прототип или прототипы создают то, что можно назвать плотностью образа, его узнаваемостью, его способностью присутствовать во всяком времени. Такой угол зрения заставляет нас иначе, чем обычно, взглянуть на то, что мы называем «прототипами» и на степень важности их обнаружения для понимания художественного произведения.
Так, например, для героев романа Ф.М. Достоевского «Бесы» найдено исследователями множество исторических прототипов. На многие указал сам Достоевский, именующий в записных тетрадях Степана Трофимовича – Грановским, Петра Верховенского – Нечаевым; в тексте романа наделяющий Кармазинова биографическими подробностями, высказываниями и произведениями И.С. Тургенева, а Ставрогина сравнивающий с Луниным и Лермонтовым. Продолжать можно почти до бесконечности. Каждый из прототипов, полагают исследователи, важен для понимания образа, создаваемого Достоевским.
Представляется, однако, что дело обстоит прямо противоположным образом.
Это образ, созданный Достоевским, важен для понимания всех найденных и еще не найденных «прототипов» его героев. Этот образ объясняет их и доводит до логического конца потенции, зачастую не проявившиеся в жизни.
Достоевский не создает карикатур на каких-то конкретных людей, в чем его неоднократно обвиняли (и именно по поводу романа «Бесы»); он просто дает типу (при этом вполне возможно, что он разглядел его именно в одном из предполагаемых прототипов) полное развитие в создаваемом им образе, показывает все проявления такого типа, далеко не всегда обнаруживающиеся в эмпирической действительности. Перед нами возникает стройная классификация «одержимых» – и то, что обычно называют «прототипами», следовало бы скорее рассматривать как примеры к разделам этой классификации.
В сущности, именно так функционирует то, что мы называем «вечными образами» (Фауст, Дон Жуан), вновь и вновь обнаруживая их в самых разных видах и проявлениях и в реальности, и в литературных произведениях.
Но при всем этом глубину и огромный, запредельный объем (пусть и отдающий пустотой) образу Ставрогина придает отнюдь не его соотношение с Луниным или даже Лермонтовым. Огромный объем образ Ставрогина приобретает потому, что он показан Достоевским как место, как существо, избранное и предназначенное для Божественного присутствия, выбравшее, однако, стать «подчиненной формой» дьявола. Для того, чтобы связать два плана образа, проявить в образе Ставрогина и его актуальную и его потенциальную глубину, Достоевский активно использует все вышеперечисленные средства: аллюзию, реминисценцию, ассоциацию.
С одной стороны, Ставрогин отчетливо ассоциируется с бесноватым, заключающим в себе «легион» из евангельского эпиграфа к роману: «Тут на горе паслось большое стадо свиней; и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся» (Лук. 8, 32-36). Ведь Ставрогин признается Тихону «в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно было и понять, <…> что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и “разумное”, “в разных лицах и разных характерах, но оно одно и то же, а я всегда злюсь”» (11, 9)[10]. И именно из Ставрогина вышли бесы, одержащие остальных героев романа.
Одновременно Ставрогин – «зверь» (о нем говорят: «зверь показал свои когти» (10, 37), повторяя на следующей странице – «зверь вдруг выпустил свои когти» (10, 38)) и «премудрый змий» (так его называет Липутин, цитируя капитана Лебядкина (10, 83), так называется и глава, в которой впервые появляется Ставрогин, хотя именно при чтении этой главы становится ясно, что «змий» – это не совсем он, а что-то другое, пытающееся подставить себя вместо него) – то есть Ставрогин – тот, за которым стоит сатана, и, отдавая ему свою власть, использует его, как свою марионетку, свой «костюм», свою «подчиненную форму»: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела (в структуре романа «рана зверя»[11] – флюс после «пощечины» Шатова, нарыв, который Николай Всеволодович отказывается показывать доктору и который сам проходит без следа, в то время как в городе говорят о выбитых зубах и прочих «отвратительных» подробностях – Т.К.). И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Откр. 13, 1-5).
Примерно в такие отношения (дракона к зверю) пытается встать к Ставрогину в романе Петр Верховенский. Вот характернейший в этом смысле эпизод: «Что ж я? – воротился он вдруг с дороги,– совсем забыл, самое главное: мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришел.– То есть?..– То есть ваш ящик, ваши вещи, с фраками, панталонами и бельем; пришел? Правда?.. Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталон, от Шармера, по вашей рекомендации, помните?» (10, 180-181). В «нашем», то есть «вашем» ящике, вместе с вашими вещами – самое главное – мой костюм. Ставрогин, в восприятии Петра Степановича, и правда напоминает костюм для младшего Верховенского. Еще одно в том же смысле характерное признание Петра Степановича Николяю Всеволодовичу: «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом!» (10, 408).
Но потом он «меняет тактику», заявляя, что теперь во всем «полная воля» Николая Всеволодовича, ибо на самом деле Верховенский, конечно, не сатана, а «другой зверь» с рогами агнчими (хотя, возможно, это одно и то же), «пророк» великого зверя, собственно антихрист, провозглашающий богом зверя-самозванца, творящий его кумир и осуществляющий «социальную программу» царства зверя.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13, 11-17).
Недаром именно Петру Верховенскому задаст Степан Трофимович вопрос: «Помилуй… да неужто ты себя такого, как ты есть, людям взамен Христа предложить желаешь?» (10, 171). Хотелось бы обратить внимание на то, что «взамен Христа» – это самая точная из возможных передача на русский язык греческого слова «антихрист».
Достоевский точно воспроизводит структуру образа «зверя», данную в «Откровении», где показано, как «зверем» пародируется и извращается божественная троичность (см.: Откр., гл. 13), как на место принципа триединства является принцип маскировки и уголовный принцип «подставы». Сатана прячется за «зверя», выставляя его вместо себя правителем царства, которое разрушится через краткий срок. А истинность свидетельства Лиц Троицы друг о друге превращается вторым зверем, пришедшим, чтобы свидетельствовать о первом, в обман и надувательство.
То же самое мы видим и в романе: «Ну-с, тут-то мы и пустим…- рассказывает Верховенский – Кого? – Кого? – Ивана Царевича. – Кого-о? – Ивана Цревича; вас, вас! – Самозванца? – Мы скажем, что он «скрывается», – тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. (Так Достоевский передает экстатическое состояние лжепророка – Т.К.) – Знаете ли вы, что значит это словцо: «Он скрывается»? (Заметим: Достоевский настойчиво повторяет в речи персонажа то, что должно напомнить читателям предупреждение так называемых «малых апокалипсисов»: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, – не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, – не верьте; обо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 23-27)- Т.К.) Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше, чем у скопцов (скопческая легенда типологически – это легенда о все новых являющихся христах и богах-савоофах – Т.К.). Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное – новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять» (10, 325). Последним предложением утверждается, что самозванец – лишь инструмент на час, подставное лицо истинного правителя.
Ставрогин словно пародирует Творца, не творя, но изменяя и извращая мир вокруг себя, закруживая его в вихрь и хаос, «лишая ума». Только один характерный пример: «Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны – в одной обожали его, а в другой ненавидели, до кровомщения, но без ума были и те и другие» (10, 37). Но главная его игра – сотворение человека, сотворение «по своему образу и подобию» – вернее, по подобию одной из личин, которой прикрывает пустота провал на месте лица, сотворение человека посредством внедрения в него «одного из легиона» или, если воспользоваться фразеологией романа «Преступление и наказание», посредством внедрения в него «идеи-трихины».
На такую подмену (Ставрогин вместо Бога, Ставрогин вместо Христа) в романе указывает множество высказываний персонажей. Сам Ставрогин скажет Шатову: «…вы, кажется, смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку сравнительно со мной» (10, 193). Лебядкин говорит Ставрогину: «Я как солнца ожидал вас всю неделю» (10, 210). Солнце, как мы все помним, – традиционное именование Христа. Федька-каторжный прямо говорит Ставрогину: «Я перед вами, сударь, как пред Истинным» (10, 205).
В дальнейшем течении романа появится взгляд на Ставрогина как на звезду: «… тут звезда-с, а не какой-нибудь один из молодежи; вот как понимать это надо» (10, 233), – говорит один из клубных старичков; в этой фразе очевидно присутствуют люциферические аллюзии. Все видят в нем призванного исправить «вывихнутый мир» (недаром генеральша Ставрогина будет сравнивать сына с Гамлетом), каждый предлагая для этого свою идею и свой путь – и это тем настойчивее обращает нас к образу Люцифера, что восстановления мира ожидают от того, чьими играми и экспериментами мир и был вывихнут.
Но особенно, конечно, характерно высказывание Лебядкина, встречающего Ставрогина угощением: «А главное, от ваших щедрот, ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я, а я, так сказать, в виде только вашего приказчика…» (10, 208) – высказывание, пародирующее возглас священника на Евхаристии: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Сам возглас имеет в основе своей молитву Давидову при освящении Храма, и слова Лебядкина есть прямой парафраз этой молитвы: «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе; Потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши; как тень дни наши на земле и нет ничего прочного» (1 Пар. 29, 14-15).
Ставрогин, занимая место мужа девицы Марьи Тимофеевны (Мария – (евр.) превознесенная, Тимофей – (греч.) почитающий Бога; таким образом, Марья Тимофеевна – превознесенная почитающими Бога, такое именование приличествует лишь Богоматери (не говоря уже, конечно, о самом имени «Мария», неизбежно связанном в нашем сознании с Богородицей, хотя в Ее честь это имя и не нарицается)), вытесняет Бога из ее сердца, оставляя в нем тоску, пустоту, сны и миражи, кошмары небытия, захватывающие все большее пространство, пожирающие реальность и в конце концов уничтожающие героиню.
Непорочное зачатие Богоматери и Ее принесение Сына в жертву за мир чудовищным образом пародируется в «мираже» Хромоножки о том, как она родила ребеночка, а мужа не знает, не помнит и пола ребеночка («то мальчик вспомнится, то девочка» – перверсия идеи цельного Человека Христа (пол – половинка человека)), как она обернула ребеночка в батист и кружево и «цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла» – подготовила к жертвоприношению, которое и совершила: в пруд снесла.
Этот же «мираж» будет отчасти воспроизведен и воплощен в истории другой Марии, связанной со Ставрогиным, которую в романе будут называть только французским вариантом имени – Marie, жены Шатова. Marie приедет к мужу, чтобы родить ставрогинского ребенка.
Проводя грубые параллели, можно сказать, что Марья Тимофеевна в системе романа воплощает Церковь русского раскола (а также, возможно, и русских сект), а Marie – Церковь католическую. Обе увлечены антихристом, но обе отрекутся от него и кровью омоют свой грех отступничества.
Эта аналогия отразилась в искажении и подмене глубочайшей интуиции, дарованной Марье Тимофеевне. Богородица – мать сыра земля… В каком-то смысле это все равно, что Князь – Ставрогин. Она подмена ведет к другой. И в том, и в другом случае Хромоножка путает задание с данностью; задание, исполняя которое надо пройти долгий путь (путь, от которого идущий может отказаться – и тогда провал будет так же глубок, как вершина, на которую надо было взойти), – с наличным состоянием вещей.
Сближение у Достоевского Богородицы с землею, часто почитаемое еретическим, таковым не является. Именование Богородицы в молитвах «О, Земля благая, прозябшая клас неоранный», известное из жития обращение Иоанна Богослова, названного сына Богородицы, к земле как к матери во время своего погребения указывают на некую истину, за таковым сближением скрывающуюся.
Богоматерь – «Царица Небеси и земли», но царь представляет собой все царство свое, представительствует от него, является как бы его лицом, главою – а не чем-то отдельным. Все царство не есть царь, но царь есть все царство.
В православных песнопениях Богоматерь прославляется как «земля обетования, из нея же течет мед и млеко», как «нива, растящая обилие щедрот».
Митрополит Сурожский Антоний в слове на службу Погребения в Страстную Пятницу говорит: «В эту землю легло бессмертное, нетленное, пречистое Тело Иисусово. И земля дрогнула, и все изменилось, до самых недр ее»[12]. Перед нами, по сути, продолжение Благовещения, продление того же действия, которое однажды было совершено благодаря раскрытию Пресвятой Девы воле Божией. Только теперь сама земля принимает в недра свои, в утробу свою Тело Господне. Как прежде освятился начаток твари – Богородица, так ныне освящается вся тварь, получает возможность святости и бытия в Боге, если пожелает, если пребудет верна призыву Господню. Земля, как и Богородица, носила Господа во чреве своем. Земля и всех сынов Божиих хранит во чреве своем до Воскресения.
Богородица – начаток чистой, неповрежденной грехом твари – есть истинная, благая Земля, общая Мать, чья зеленая риза не меркнет, не тлеет, не утрачивает даров Духа. Земля Завета является прообразом Богородицы: ведь тайный смысл задания, полученного Израилем, тайный смысл движения к Земле Обетованной в пространстве – это движение к Богородице во времени.
То, что почитание «матери-земли» как Богородицы есть принадлежность многих ересей, не означает изначальной еретичности такого почитания. Ересь ведь практически никогда не «придумывает», не изобретает чего-то принципиально нового, но уклоняется от чего-то имеющего истинную природу, искажает эту природу. Так и в данном случае: ереси обоготворяют наличное состояние твари, поклоняются земле, обремененной нашим грехом и проклятием Господним, а не благой Земле, явившей начало исцеления твари. Марья Тимофеевна (как и все создания Ставрогина) извращает – таким же образом, как и известные ереси – одну из самых святых и сердцевинных христианских интуиций.
Что касается остальных созданий Ставрогина, то С.Н. Булгаков так писал об отношении Ставрогина к Шатову и Кириллову: «Он явился для обоих искусителем, соблазняя их призрачной истиной и призрачным добром. Искушение всегда имеет дело с полуистиною, выдаваемой за целостную истину, причем следствие в нем подставляется в качестве самостоятельной цели, так что получается погоня, вместо причины, за следствием. Искушение обманывает, нарушая лад и строй целого, ниспровергая мудрость целостности – целомудрие, и такое именно разрушительное действие оказывает на души Кириллова и Шатова Ставрогин, обольщая одного идеей божественности всякого индивидуального человека, а другого – божественности народа»[13].
Можно добавить к сказанному Булгаковым: обольщая Петра Верховенского – идеей равенства и единства человечества, идеей сплоченности человечества вокруг единого центра – Личности, влекущей к себе всех с неодолимой силой.
Таким образом, Кириллов обожествляет самость вместо личности, Шатов – ковчег вместо Завета, Верховенский – антихриста вместо Христа…
Все они обожествляют оболочку, почитаемую за то, что она заключает в себе святое содержание, – саму по себе, уже вне отношения к содержимому. Между тем, оболочка, обоготворяемая без содержимого – идол, скорлупа, shell, шеол Ветхого Завета – место отсутствия Бога; место гнездилища бесов – что так ясно видно на полотнах Иеронима Босха. Словом – та самая бездна, в которую просят не посылать их бесы, вышедшие из Гадаринского бесноватого.
Часто утверждают, что идеи Шатова – это чуть ли не идеи самого Достоевского. Однако Достоевский прекрасно видел идею в ее истинном виде, и очень внятно описал ее в ответе Градовскому, в «Дневнике писателя» за 1880 год: «… всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность. Взгляните на евреев и мусульман: национальность у евреев сложилась только после закона Моисеева, хотя и началась еще из закона Авраамова, а национальности мусульманские явились только после Корана. Чтоб сохранить полученную духовную драгоценность, тотчас же и влекутся друг к другу люди, и тогда только, ревностно и тревожно, “работою друг подле друга, друг для друга и друг с другом” (как вы красноречиво написали), – тогда только и начинают отыскивать люди: как бы им так устроиться, чтобы сохранить полученную драгоценность, не потеряв из нее ничего, как бы отыскать такую гражданскую формулу совместного жития, которая именно помогла бы им выдвинуть на весь мир, в самой полной ее славе, ту нравственную драгоценность, которую они получили. И заметьте, как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. В каком характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и формулировались и гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят. Сами же по себе никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось. А стало быть, “самосовершенствование в духе религиозном” в жизни народов есть основание всему, ибо самосовершенствование и есть исповедание полученной религии, а “гражданские идеалы” сами, без этого стремления к самосовершенствованию, никогда не приходят, да и зародиться не могут. <…>. Не “начало только всему” есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно. Для него и живет гражданская формула нации, ибо и создалась для него только, чтоб сохранять его как первоначально полученную драгоценность. Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования в том духе, который зародил ее, тогда постепенно исчезают все “гражданские учреждения”, ибо нечего более охранять. Таким образом, никак нельзя сказать то, что вы сказали в следующей вашей фразе: “Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства общественных учреждений, воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести”» (26, 165–166).
То, что проповедует Шатов – очевидное искажение идеи Достоевского. Шатовым обожествляется «народ-богоносец», тот, кто несет, а не то, что он несет. Обожествляется народная самость, быт и строй, народное тело, сложившееся лишь для сохранения данного свыше содержания, – вместо народной личности, которая есть религиозная идея народа, врученное ему религиозное откровение, и которая не может быть явлена иначе как в личном самосовершенствовании каждого. Шатовым обожествляется то, что вполне может нести в себе как Лик Христов, так и легион бесов, если только перестанет осознавать Лик Христов как ту единственную драгоценность, для которой только и существует, – недаром в конце романа Россия будет названа Степаном Трофимовичем «милым нашим больным» и прямо соотнесена с гадаринским бесноватым. Идея служения Богу нечувствительно подменяется Шатовым идеей присвоения Бога народу, на что ему и укажет Ставрогин: «Бога низводите до простого атрибута народности» (10, 199). Желание отдать всем данную народу на сохранение и проповедание драгоценность подменяется желанием «своим богом победить и изгнать из мира всех остальных богов» (10, 199), желанием, столь часто возобладавшим в истории человечества. Шатовым закономерно искажается драгоценная идея народа как Ковчега Завета…
Возвращаясь к Марье Тимофеевне, как чрезвычайно характерную деталь нужно отметить, что Ставрогин женится на ней из-за пари на вино. И этот брак «из-за пари на вино» кажется перверсией, злобным извращением Каны Галилейской: там вино для брака, здесь – брак для вина.
Так, прошивая текст цитатами и деталями, едва заметными по-отдельности, но подавляющими в совокупности, Достоевский создает истинный внутренний образ героя – образ антихриста, в свою очередь соотносимый с образом Господа и Христа. Но соотносимый глумливо. Глумливость является стилистическим маркером романа «Бесы».
В свете сказанного нельзя не признать, что памфлетность (что означает – поверхностность, закрепляемая обилием очевидных «прототипов») романа «Бесы» сильно преувеличена…
То, что мы называем «прототипом», связывает образ с настоящим моментом, позволяет узнавать его в окружающей нас действительности, и в этом смысле не важно, был это прообраз или «послеобраз».
Для знаменитой сцены из романа «Братья Карамазовы», где речь идет о распятом мальчике и ананасном компоте, прообразов, тем более в текущей действительности, никто не искал – так все были потрясены ее «чудовищной извращенностью». А вот «послеобраз» в нашем времени у нее нашелся, и был замечен независимо друг от друга разными читателями. «Мы все причастны греху Лизы Хохлаковой, – сказала мне И.Б. Роднянская, – когда приходим домой и садимся перекусывать под новости. Ведь мы слушаем в это время об убийствах, войнах, землетрясениях». «Мы как Лиза, – сказала мне одна слушательница в православной летней школе, – только хуже. Она представляла себе, что ест ананасный компот перед распятым мальчиком, и тряслась в слезах. А мы едим себе спокойно перед телевизором».
Здесь очевидно, что предшествующий или последующий образ наличной, текущей действительности, опознаваемый нами как связанный с литературным образом, лишь констатирует идентичность («похожесть») ряда явлений, но мало способствует проникновению в глубину образа. Мы можем только констатировать, что то, что представлялось диким извращением современникам Достоевского, стало для нас нормой, а мы этого даже и не заметили.
Проникновение в глубину – и в смысл – образа начинается, когда мы замечаем, что сцена, нарисованная Лизой, множеством деталей связана со сценой Христова Распятия, что переключает нас совсем в иной план. И тогда мы понимаем, что мы не просто пьем свой ананасный компот, глядя на мучения таких же, как мы, но мы вымаливаем этот ананасный компот у Распятого, истекающего кровью, пролитой за нас. У Того, Кто распинается в каждом из страдающих на этой земле.
Проявление в образе первообраза мгновенно открывает в образе безмерную глубину – потому что она простирается над бездной, отделяющей творение от Творца. Образ становится мостом, соединяющим разделенное бездной, и он – как отклик Авраама: «Увидь меня» – позволяет первообразу вновь присутствовать и действовать в творении, преображая его.
Можно сказать, что образ, обладающий качеством глубины, есть форма вольного соработничества мира или человека с Творцом.
Образ оказывается связующим звеном между прообразом и первообразом, и те, кто читал «Братья Карамазовы», даже если они не опознали в указанной сцене Распятия Христова на сознательном уровне, все же утрачивают часть своего окамененного нечувствия и хотя бы вновь плачут над своим ананасным компотом перед телевизором. А иногда совершают и более решительные действия.
Обращение к искусству, имеющему дело со зримым образом, позволяет нам легко констатировать еще нечто существенное для того, чтобы в образе возникла глубина. Два плана должны соединиться не в пределах одной сцены, что порождает скорее аллегоричность, а это свойство в нашем представлении тоже оказывается противопоставлено глубине. Два плана должны наложиться один на другой так, чтобы внутреннее не существовало нигде, кроме как во внешнем (любое выговаривание внутреннего впрямую ведет к утрате глубины), образ должен начать являть иное, иное должно начать проступать и преобразовывать образ, порождая в нем смысл, не могущий быть заключенным в очевидно явленном.
Это сочетание планов должно вызвать у зрителя или читателя чувство растерянности и потрясенности.
Одновременно опознание в образе глубины должно переключить все повествование в иной регистр. Когда в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение» пришедший из ниоткуда отец, откликнувшийся на вызов и зов своего давно покинутого мальчика, не смогшего спрыгнуть с вышки, спит единственную ночь, проведенную в доме своей семьи, в позе и ракурсе «Мертвого Христа» Мантеньи – весь остальной фильм неизбежно начинает читаться на фоне Христовой жертвы ради обретения человеком себя самого – то есть, Бога в себе. И заключительное падение отца с вышки становится очевидно аналогичным Христову распятию, уничтожающему власть принятого Им на Себя греха, – так и отец будто вбирает в себя все страхи и неспособности своих детей – и уничтожает их, заключенных в него, актом своей смерти.
Выше было сказано, что повторение в портрете жеста, виденного в другом портрете, вызовет ощущение подражательности, вторичности, несамостоятельности художника. Это относится к изображениям, воспринимаемым нами как принадлежащие к одному плану бытия. Но когда в этюде «Девушка расчесывает волосы» Коро повторяет жест Венеры Анадиомены Тициана, мы видим, как в очень юном существе пробуждается и овладевает им древняя стихийная сила, та, которую греки называли Афродитой, как эта сила, этот динамический вихрь, вновь является, отпечатлевается в мире в образе, как человеческое существо становится, по сути, лишь одним из явлений этой силы, и если она покинет его – оно будет опустошено, – мы испытываем потрясение, а не скуку от повторения.
Все образы, разобранные нами, относятся к эпохе после Боговполощения. Но сама история Боговоплощения, то есть явления первообразов непосредственно в течении, в потоке времени, для того, чтобы быть воспринятой нами на глубине, должна соотнестись с тем, что было до нее. Здесь мы видим то же самое, но в обратной перспективе, – чтобы оценить красоту и степень преображения, нужно знать о том, что преображается.
Картина Ганса Гольбейна младшего «Мертвый Христос», исполненная художником чтобы быть помещенной над плитой, закрывавшей нишу с узкими гробами, подобными тому, в котором мы видим у Гольбейна Христа, – картина, являющая нам Христа в первом движении воскресения, – для ясного понимания движения образов должна была, по замыслу художника, соотноситься с типом надгробья, которое Мазаччо поместил под своей Троицей.
Там в нише, подобной гробу Христа у Гольбейна, лежит скелет. Латинская надпись над ним гласит: «Я был тем, что есть вы, а вы станете тем, что есть я». Вот что ожидало смертного до Пришествия Христова. Но Христос Гольбейна, повторяющий позу скелета Мазаччо (и на фоне этого повторения особенно видно движения воскресения, изображенное Гольбейном: рука скелета Мазаччо простерта на крышке гроба – Гольбейн выведет руку Христа за пределы переднего плана картины, явив ее ожившей и начавшей движение, пусть еще почти бессознательное; так же изменится положение шеи и головы, вывернувшихся в безмерном усилии подняться), так вот, Христос, повторяя позу скелета, повторяет, по сути, и слова надписи, только обращаясь не к живым со словами отчаяния, а к мертвым – со словами надежды: «Я был тем, что есть вы – а вы станете тем, что есть Я».
Отсылка образа к первообразу или первообраза к прообразу создает глубину – и одновременно предельную отчетливость смысла изображенного, отчетливость, по нашим привычным представлениям, теряющуюся в глубине, – и эта отчетливость возникает в том случае, если мы вошли, посредством припоминания, в этот созданный между ними тоннель и прошли его до конца. Если мы воистину постигли соотношение первообраза и образа.
[1] «La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito» («Природа человека – это связь с бесконечностью») – под таким названием проходил в 2012 году XXXIII Митинг дружбы народов в Римини – ежегодный крупнейший в Европе католический форум.
[2] Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.;Л, 1960-1963. Т. 7, С. 118. Жирный шрифт в цитатах – выделено автором, курсив – выделено мной. – Т.К.
[3] Рубец на ноге Одиссея // Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Пер. с нем. А.В. Михайлова. СПб.: Университетская книга, 2000. С. 7-25.
[4] Там же. С. 12.
[5] Kasatkina T. Dostoevskij. Il sacro nel profano / prefazione di Uberto Motta, traduzione i cura di Elena Mazzola. Milano: BUR Saggi, 2012.
[6] Brontë Charlotte. Jane Eyre. Oxford University Press, 2000. P. 210.
[7] Ibid.
[8] Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. Саранск, 1991, стр. 239.
[9] «достаточно пространства и времени». Эндрю Марвелл.
[10] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Здесь и далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках после цитаты, указывается том, страница.
[11] Достоевский в черновых записях к роману неоднократно вспомнит об этом эпизоде Апокалипсиса, но, как он это делает во многих случаях, уберет из основного текста все прямые упоминания о раненой голове зверя, для того чтобы она мерцала только в раненой голове Ставрогина, создавая глубину образа. Вот некоторые из черновых записей: «NB) Князь Шатову говорит об Апокалипсисе, о начертании имени зверя, голова ранена» (11, 195); «С другой стороны, я считаю, что христианство заключает в себе все разрешения для мира. Младенца, millennium, Апокалипсис, раненый зверь» (11, 187); «Апокалипсис. – Сообразите, что значит зверь, как не мир, оставивший веру; ум, оставшийся на себя одного, отвергший, на основании науки, возможность непосредственного сношения с Богом, возможность откровения и чуда появления Бога на земле» (11, 186).
[12] Митрополит Сурожский Антоний. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. С. 265.
[13] Булгаков С.Н. Русская трагедия. О «Бесах» Ф.М. Достоевского в связи с инсценировкой романа в Московском Художественном театре // Ф.М. Достоевский. Бесы. Роман в трех частях. «Бесы»: антология русской критики. С. 498.
Об Авторе: Татьяна Касаткина
Татьяна Александровна Касаткина — русский философ, литературовед, культуролог, религиовед, писатель. Специалист в области теории культуры, теории литературы, философии, религиоведения, творчества Ф. М. Достоевского, русской литературы XIX—XXI вв. Доктор филологических наук (2000). Председатель Комиссии по изучению творческого наследия Ф. М. Достоевского Научного совета «История мировой культуры» РАН, зав. отделом теории литературы ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. Член Международного общества Ф. М. Достоевского (International Dostoevsky Society)[1]. Член правления Российского общества Ф. М. Достоевского. Член редакционного совета альманаха «Достоевский и мировая культура», член редколлегии ежегодника «Достоевский и современность», член редколлегии Международного общества Достоевского «Dostoevsky Monograph». Автор 5 монографий, повести «Копия»[2], учебного пособия по курсу «Религия, культура, искусство» (выпуск первый)[3], более 200 научных статей, редактор многих сборников работ отечественных и зарубежных ученых.

 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы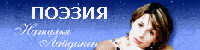 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО


Глубина человека ли, произведения ли… ведь это очень просто, как и вечность. «Нынче будет, завтра будет, всегда будет и вчера было и третьего дня было…» – стоит только выделить критерий. Всего делов! Прикладывать этот аршин и… А есть ли он? да! Определим ли? нет! Вот и приходится метаться «между городом Нет и городом Да». «Второй план» говорите? Оно бы и неплохо… Когда слышу: «Здесь двух мнений быть не может!..» – меня так и подмывает согласиться: «Конечно! ведь их много больше…» Равно и планов. Вроде рангов рефлексии: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю!» Или: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я!» При этом непродуктивно, однако, возводить множество отражений в стиле так называемой «дурной бесконечности» в категориальный принцип, поскольку он не будет нести никакой эвристической нагрузки. Интересно, что каждый последующий план или образ может найтись вовсе не обязательно в зеркальном отражении, матрешкообразном размещении или – в алавердинским тосте в тосте (в просторечии – a’ la verdy), если так понятнее, но располагаться в «другой вселенной». Я имею в виду, что каждый автор создает особый мир в меру своих способностей, их реализации, случая, наконец, хотя последний вариант наименее очевидный. И миры эти не изолированы непроницаемо. И сообщаются они не только цитатами, идеями, образами. От одного мира может зажечься другой, по аналогии с гипотетическим возникновением жизни на Земле от внеземной цивилизации. Равно, авторы оказывают и испытывают взаимовлияние, пусть даже разнесенное во времени. Причем даже самые продвинутые из них не могут избегнуть подобной участи. Один из очевидных примеров – «чеховское ружье». Оно необъяснимо из самого себя, будучи символом. И даже если в пьесе какого-нибудь Акунина (имя чисто условное и всякие случайные совпадения прошу считать недоразумением) оно благополучно провисит до второго пришествия очередного акта, искушенный зритель тем не менее все равно будет коситься на него. Так что далеко не всегда первый план объясним-выводим из ограниченного пространства в диапазоне от вселенной до арены диаметром в 13 метров (42 аглицких фута). А может быть зафиксировано и соотношение идеального образа-плана произведения и реального предмета, весьма обыденного, не смейтесь – камня. Пошел как-то раз ввечеру Федор Михайлович с молодой женой погулять перед сном, чтоб утомить ненужную тревогу. Да и показал ей пресловутый камень, не сказать, чтоб преткновения. «Смотри, дескать, Аня, под этим камнем, о котором сейчас Айртон** пишет, Родион Романович сокровища попрятал. Убить-убил, а попользоваться толком не сумел!» Тут уже и не два, а третий план, через разъясняющего субъекта подмешался, найдете? Планов и образов – превеликое множество. «Громадье! размаха шаги саженьи!» Об этом – в другой раз. И – так ли ошибался посмертно обанкротившийся классик, объявивший, что «вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку»?
Итак, я за множество планов, хотя выявление соотношения между ними, что хронологического, что пространственного, что генетического представляет не менее сложную задачу, нежели определение глубины, с которой начала рецензируемую статью госпожа Касаткина. Зато ее решение переносится на другой уровень, принципы подхода к которому только предстоит обозначить. Татьяна Александровна выходит в своей статье на искомую глубину через образы Достоевского (магнит более, чем притягательный, не случайно он рифмуется со словом «манит») вкупе с библейскими образами. Все же я считаю, что для науки прибегать к вере вовсе необязательно, но для философского исследования вполне допустимо. Сочтусь на том, что это нечто вроде аналога математических мнимых, которые позволяют решать вполне практические задачи. Тем не менее осмелюсь предположить, что религиозный подход не является единственным, но даже и ведущим. Что человек есть тайна – предупреждал Достоевский. Нет и единого пути к ее раскрытию, добавлю от себя. «Открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне дна» – это и о тайне, и о глубине, об их схождении…
А что до искушения ананасным компотом, так все общество потребления благополучно потопнет в нем! Если не перестанет быть таковым!