ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ ● СПОТЫКАЯСЬ О ЗВЕЗДЫ ● ОЧЕРК

Писателю Григорию Скульскому – 100
– У меня тоже много друзей среди фронтовиков, только все они умерли! – сказал мне мой добрый знакомый, чей отец, как и мой, воевал.
…Скажи два слова. Дерево в крови
у нас с тобой. Прибило к сердцу щепы.-
Скрои ладью, вода уходит в Днепр,
а днище украшают соловьи.
Бессмертье порвано на – утром: рот,
на ночью: ров, на – было и – не будет.
Товарищ мой, в земле страшна простуда, –
вот шарф мой, ты возьми, потом вернешь.
Так я писала двадцать пять лет назад, когда отца не стало.
К сегодняшнему дню вышла не только моя – еще несколько книг воспоминаний, в которых коллеги отдают дань моему отцу. Из наиболее дорогих: свидетельство Акселя Тамма о 1958 годе, когда травили Пастернака, – эстонскому Союзу писателей надлежало внести свою лепту; мой отец вышел на трибуну и стал читать стихи великого поэта, читал долго, в тишине (а читал отец замечательно!), пока не раздались аплодисменты. И признательность Кальо Кийска за сотрудничество и борьбу за фильм «Безумие», положенный на полку за пессимизм. И слова Лили Промет о том, что отец может не стыдиться подшивок старых газет. (А я-то видела предвоенные газеты, где крупнейшие писатели отрекались от своих друзей под заголовками "Ослепленные злобой"; "Агенты международной контрреволюции", "К стенке"; "Ложь, предательство, смердяковщина»).
 Отец был объявлен космополитом, но не сломался, отказался писать под псевдонимом за преуспевающего коллегу. А спустя несколько лет, на гребне колоссального успеха двух романов, отказался от выдвижения на Сталинскую премию.
Отец был объявлен космополитом, но не сломался, отказался писать под псевдонимом за преуспевающего коллегу. А спустя несколько лет, на гребне колоссального успеха двух романов, отказался от выдвижения на Сталинскую премию.
Молодость моего отца прошла в Киеве, среди счастливого романтизма украинской речи. В 1941 году он ушел добровольцем на фронт. С 1945 жил в Таллинне, здесь стал заслуженным писателем Эстонии, здесь создал лучшие свои вещи.
Перечитываю «Розового мальчика», «Частицу бессмертия», «Кина не будет», «Формулу Гайчука», «Железную Татьяну», «Брэйнсторминг» и думаю, как трудно было в задушенной стране, в отравленном воздухе писать правдиво и грустно, находить полоски света во мраке и идти по ним, не глядя на обочины, туда, куда влекут вдохновение и талант.
Писатели-фронтовики… Прокрустово ложе судьбы и боли, прокрустово ложе империи, где любовь и ненависть не делали шага друг к другу. Они, фронтовики, были мужественны и бесстрашны, и бесстрашие свое принимали за свободу; они тянулись к жизни, они обнимали и ласкали жизнь во всех ее проявлениях, потому что они слишком хорошо знали смерть, были с ней близки и отворачивались от нее, как от надоевшей женщины.
У каждого писателя-фронтовика (а у меня было много друзей среди них) есть рассказы о войне, которые они никогда не смогли написать. Они непременно делились ими за рюмкой в доброй маленькой компании, но не отдавали бумаге. И береглись они бумаги не от страха, а от странного, чудовищного, разрастающегося, как раковая опухоль, чувства долга, как они его понимали.
Были такие истории и у моего отца. И без них литературная и документальная история Второй мировой войны не закончена и не дописана.
… Была затянувшаяся, скучная передышка в бою. Батальон окопался на краю лысой, в бородавках кустарника, поляны. По другую сторону были окопы противника. Война шла к концу. Уже случались у людей инфаркты – предчувствия мира, уже сердца кололись, как ворье на допросах. Прелая лесная жара дурманила, пьянила и клонила в сон. Спирт чудил в головах (много, много пили на войне, смелели, куражились и гибли). Но дело было даже не в спирте, а в привычке рисковать, в потребности смертельной игры, в том остром восторге гибели, что сродни счастью. И вот стали по одному выглядывать из окопов, вылезать, становиться в полный рост и бегать по поляне рывками из стороны в сторону, как крик бежит от эха в лабиринте. И бегали. И плясали. И снимали лихачей пули снайперов, и убитые прижимали к груди молодую пулю, как девушку, и падали в короткую, колючую траву. И немцы точно так же выходили из своих окопов и тоже что-то пели и кричали на своем краю поляны и тоже снайперы снимали их – нехитрое дело днем, на солнце и вблизи…
…За Сталинградскую битву отец получил первый орден. От волнения у него поднялась высокая температура. Его внесли в дом, где лежала женщина-лейтенант на обмороженном пулемете. Она задвигалась, оживая, и повернулась к отцу. Сквозь валежник прядей, из-под челки, выкарабкался коричневый глаз, огромный, как медвежонок. Она снова, всей своей надсадной красотой, легла на пулемет. На гимнастерке, на плече у нее, была затканная шелком крови роза. Женщина заговорила, и не цыганская даже – короткая, на длину кинжала – тяга была в ее голосе, но страсть – насыщающая, исчерпывающая – о которой стонет ночами зверь.
– Страшно было? – спросил отец.
– Страшно будет, если война кончится, – ответила ему….
… И еще о женщинах: как трое из медсанбата отправились в деревню, занятую немцами, как их поймали в лесу, увели за собой, а на следующий день их, хохочущих, катали на танках, а потом отпустили. И они вернулись – понурые, но не растерзанные, испуганные – но не из-за того, что с ними приключилось, а из-за того, что ждало их у своих. Но, против всех ожиданий, наши тоже ничего с ними особенного не сделали – отправили в тыл, как тяжело пострадавших от врага…
В молодости отец писал стихи. После войны стихи стали писать герои его прозы. Один из них сочинил:
Так что такое муки творчества?
В чем их стремленье и резон?
Поэзия – иконоборчество
Иль сотворение икон?
И разделимы ль два понятия
Иль только вместе хороши?
Поэзия – души распятие
И вознесение души.
Мы были коллегами, товарищами, по-разному смотрели на искусство, но уважали взгляды друг друга и во многом одинаково смотрели на жизнь. Отец нередко брал строчки из моих стихов к своим вещам, я написала о нем книжку. Мне до сих пор неуютно и сиротливо без него. Я давно бросила и курить и пить, но с ним бы и выпила и закурила и послушала бы, как он читает, например, «Медного всадника». А пока несколько строк из обращения к нему:
Трава во льду,
что рыба под стеклом.
Да сквозь ветвистую ограду поднебесья
театр земных правдоподобных действий
смакует ворон
царственным зрачком.
Прости мне жизнь,
как я тебе ее,
прощая, лгу.
В запальчивости ужас
(нет, погоди, пожалуйста, дослушай!)
вдруг переходит
в удаль
на скаку.
2
Коридор в моей квартире обклеен афишами – старыми театральными афишами спектаклей моего отца – Григория Скульского и недавними, моих представлений. Зашел ко мне в гости Адольф Шапиро:
– Вот это да! У меня такой нет. Как это ты ее сохранила?!
Афиша Рижского ТЮЗа 1968 года, режиссер – Адольф Шапиро, автор – Григорий Скульский, а название – «Спотыкаясь о звезды» – взято из моих детских стихов, и пьеса посвящена мне, и я приезжала на премьеру, и молодая актриса, игравшая «меня», сказала: «Ах вот ты какая!»
Моему отцу исполняется 9 октября 100 лет. Он принадлежит к тому поколению писателей, для которых главным событием в жизни была Великая Отечественная война. Он ушел добровольцем на фронт из Киева в июле 1941-го, а в конце войны, после ранения, оказался в Таллине, здесь он стал Заслуженным писателем Эстонии, здесь написал лучшую свою прозу. Последняя его книга вышла в 1987 году, спустя четыре месяца после его смерти. Она называлась «Тревога», это слово относилось к слому эпох – он ждал его, торопил и не мог принять.
Лев Аннинский сказал мне: «Все мы в какой-то мере «розовые мальчики» из рассказа вашего отца…» То есть несем в литературных генах страх, слепую веру и сомнения в очевидном.
Конечно, так. И все-таки: мой отец был заклеймен как космополит, лишен права печататься, но не согласился стать литературным рабом. В книгах воспоминаний эстонских писателей я то и дело нахожу истории, о которых он мне никогда не рассказывал. Он в 1958 году, когда Союз писателей Эстонии должен был, как и все, заклеймить Пастернака, вышел на трибуну и читал, читал стихи поэта до тех пор, пока в зале не раздались аплодисменты…
Мой отец умел писать так грустно и правдиво, так достоверно и ясно, словно и не было того мрака, внутри которого он искал и всегда находил острова света, где можно было дышать художнику.
А «Розовый мальчик», вошедший во множество антологий лучшего рассказа ХХ века, о человеке, вернувшемся с фронта, о его семье, о том, как им не хочется выходить из дома, а хочется любить зиму из окна, и о том, как поворачиваются поленья в печке, и тепло согревает утихающую боль. Из окна видно, как работают пленные немцы, расчищают развалины. И одного мальчика лет шестнадцати, «розового мальчика», семья фронтовика жалеет и пригревает, и он благодарно сидит у них за столом, поддерживая тихий уют. А однажды они застают его в слезах, и хотят утешить, но слезы его – слезы восторга, ведь сегодня День Рождении Фюрера.
Пьесы отца шли на многих сценах страны, но сам он был довольно равнодушен к театру, сторонился его ночной, искусственной жизни, и с недоумением рассказывал мне, как на одной из премьер, когда кричали «Браво!», к нему приник незнакомый человек и восторженно прошептал: «Нет высшего счастья, чем это!»
А я-то соглашусь с незнакомцем. За двадцать пять лет, прошедших со смерти отца, мир изменился совершенно. Не по сути своей, конечно, но по орнаменту, быту, привычкам, интерьеру. А театральные типажи не изменились. И измениться не могут.
На одной из своих премьер в Русском театре Эстонии отец послал цветы исполнительнице главной роли с запиской: «Асе Бедрединовой – Алисе Коонен нашего театра». На сцену вынесли совершенно развороченную корзину: коллеги актрисы не смогли аккуратно отцепить записку, прикрученную к стеблям проволокой заботливым капельдинером.
Мне говорила актриса, игравшая уже в моей пьесе:
– Всё ложь! Артисты – не сукины дети! Мы – дети в сиротском приюте, лица прижали к окнам, стираем дыхание со стекол: возьмите, пригрейте! Придут, возьмут, истерзают и бросят; так и мы зарежем благодетеля, разве можно на нас за это сердиться?!
Отец рассказывал, как на одном худсовете, где запальчиво ругали молодого автора, он благодушно и примирительно начал:
– Друзья, не будем забывать, что художника все-таки надо судить по тем законам, которые он сам перед собой ставит… – и ему было немного неловко ссылаться на совершенно замусоленную фразу Пушкина. Но ничего. Тут же очнулся завлит театра и продолжил: «Как замечательно заметил Григорий Михайлович – запомним его формулировку – художника нужно судить…» В другой раз ответственный работник министерства, похвалив постановку в театре «Бориса Годунова», закончил речь так: «А с фрондерством, со всякими там белыми стихами мы будем бороться!» Отец наклонился к нему и шепнул: «Борис Годунов» написан как раз белыми…» и советник министерства продолжил: «Потому что есть наши белые стихи, а есть – враждебные нам по своей форме!»
А мне недавно звонит дама из отдела рекламы:
– Елена Григорьевна, приходите скорее. Фонвизин приехал, хочет с вами познакомиться.
– Какой Фонвизин?
– Тот самый. Автор «Бригадира»!
В театр приехал автор мюзикла…
Конечно, чужой театр мелок и холоден. Жалкое искусство. А в своем театре теплый бархат и ласковый свет. Это как в любви – что отвратительно в чужой, то вылизываешь в своей.
И любуешься зимой из окна. Наш Таллинский театр некоторое время возглавлял Михаил Чумаченко, прибывший из Москвы, где не поставил, впрочем, ни одного спектакля. И не успел он въехать в город, как дежурный критик, пишущий под псевдонимом «Крошка Тухес», сообщил: «Наш театр принял прославленный московский режиссер…»
Недавно на крыше нашего театра выпивала художественный руководитель Наталья Лапина с тремя молодыми актерами. Один из них, пока еще не принятый в труппу, сорвался с крыши и упал. Говорят, что он еще несколько секунд держался за край:
– Наташа, если ты возьмешь меня в театр, я выкарабкаюсь!
– Ты сам должен сделать свой выбор, – отвечала она…
Отец незадолго до смерти рассказывал: они въехали в эту деревушку поздним августом 44-го. Сразу вывели им прямо на дорогу четырех босых полицаев. Их повесили деревенские – с грузовика – на сучьях. Жирели на сучьях полицаи. И сразу же пошли танцевать женщины, расправляясь под деревьями, девушки в лежалых белых платьях. Гармонист безногий сидел в теплой черноземной ямке от шины. Пошатывало на сучьях полицаев, клонило в сон. Сладкие пыльные листья прилипали к женским рукам. У полицаев оттопыривались карманы на пиджаках, языки не помещались больше во рту. Свесились глаза. И так плясали, так счастливо бились-плескались под серыми гроздьями девичьи косынки, что никогда уже отец не смог об этом написать.
Одной из ведущих актрис театра сообщили неутешительный диагноз. Соблюдя известные театральные приличия, остальные начинают делить ее роли. И привычная сценка:
Славинская уже дрова. Разрезали – зашили. И можно чисто по человечески понять пятерых актрис. Они купили бутылку водки и бутылку вина; к вину печенье, к водке три котлеты из кулинарии. И вдруг ничтожная Караева-Млечкина, только что съевшая котлету, просит вина! То есть как?! Зачем же ты ела котлету?
– Дайте мне вина! Алчет дорогого вина мое ненасытное сердце, – поет ничтожная Караева-Млечкина и опрокидывает в себя буквально полбутылки.
– Таковы люди, – приходит к выводу Лидия Петровна Безбород. Ей легко говорить, теперь, когда Славинская – дрова, Лидия Петровна, без всякого сомнения, получит няню в «Сюрпризе с американцем».
– Дрянь, а не люди, – соглашается из своего опыта совершенно, конечно, счастливая Катя Ищина, она была на разовых, продавала клубнику весной на рынке, а теперь у нее будет три ввода, как минимум, и даже если из репертуара уберут «Проклятие императрицы», все равно останется еще уборщица в «Седьмом дне».
А ничтожной Караевой-Млечкиной не на что рассчитывать, ее вчера отправили на пенсию, она думает, что еще никто не знает.
И так далее, и так далее.
Больше всего Шекспир наобещал будущим литераторам сценой «Мышеловки». Мол, все придут в театр, узнают себя и ужаснутся. И было так сладко об этом думать, что все поверили. И Чехов поверил. У него в «Чайке» есть цена «Мышеловки», пьеса в пьесе. Там Нина Заречная так говорит про рогатых оленей, что Аркадина не выдерживает, выдает себя.
На самом деле никто и никогда себя не узнает. Да и ходит на спектакли один только Клавдий, только ему и нравится искусство. Потому что главные герои ищут смерти, а второстепенные довольствуются прекрасным.
Об Авторе: Елена Скульская
Елена Скульская – потомственный литератор, проживает в Эстонии. Родилась в 1950 году в семье писателя Григория Скульского. Закончила отделение русской филологии Тартуского университета, где преподавал знаменитый ученый Ю.М. Лотман. Работала в легендарной газете "Советская Эстония" вместе с Сергеем Довлатовым, который описал эту редакцию в романе "Компромисс". Сотрудничала и продолжает сотрудничать со многими изданиями, вела передачи на телевидении, сейчас вместе со студентами ведет на радио передачу "Литературный диксиленд", руководит Театром-студией "Поэтическое содружество"; спектакли студии много лет участвуют в Международных фестивалях. Преподавала в различных университетах как в Эстонии, так и за ее пределами. Замужем. Дочь – Марина Скульская -- известный историк моды, автор нескольких книг, внук -- Григорий Долич -- оператор и начинающий прозаик. Елена Скульская автор около тридцати книг стихов, переводов, прозы, эссеистики, выходивших как в Москве, так и в Эстонии. Среди них: "Любовь" и другие рассказы о любви", "Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны", "Стихи на смерть фикуса", "Мраморный лебедь", "Не стой под небом...", "Я – твое стихотворение", "Пограничная любовь", "Любовь в русской литературе", "Компромисс между жизнью и смертью. Довлатов в Таллине и другие встречи ", "Самсон выходит из парикмахерской". Е. Скульская участник антологии "Из не забывших меня", посвященной памяти Иосифа Бродского, коллективных сборников памяти Сергея Довлатова и Татьяны Бек. Лауреат ряда престижных литературных премий: Международной Русской Премии, премии журнала "Звезда", финалист Русского Букера, трижды лауреат эстонской национальной премии фонда Капитал культуры. Постоянный автор журнала "Звезда", автор журналов "Знамя" и "Дружба народов". Художественный руководитель Международного фестиваля "Дни Довлатова в Таллине". Автор ряда пьес, поставленных в разных театрах Эстонии. Практически все произведения Е. Скульской переведены на эстонский, есть несколько переводов на финский, украинский и немецкий языки.

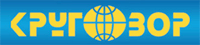 Журнал «Кругозор»
Журнал «Кругозор» Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы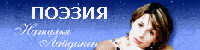 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО


Благодаря таким писателям, которые жили и работали в Эстонии в тяжелейшие (в духовном отношении, в отношении идеологического удушья послевоеныных лет) времена – русская культура в этом балтийском ( к счастью, ныне свободном ) государстве смогла частично сохранить и саму себя, и способствовала подлинным связям между двумя соседними народами. Спасибо за это и ему, и его сооавтору Борису Зайцеву, и другим!.. Да будет память о них светлой!