– Что происходит на свете? – А просто зима.
Ю. Левитанский
– Просто зима, – напеваешь ты, – просто зима.
Разве бывает теперь, чтобы просто, без склоки,
Без разночтенья, смятенья, лукавства ума?
Просто зима и о ней – простодушные строки
Читать дальше 'Ирина ДУБРОВСКАЯ. Просто зима'»
Владимир Степанович Ильяшенко был первым из представителей первой волны эмиграции, обосновавшихся в Соединенных Штатах. Он родился в 1887 в имение Афанасьевка Екатеринославской губернии. Важная подробность его биографии: Ильяшенко был выпускником императорского Александровского лицея, того самого, где Пушкин «знал поэзию, веселость и покой». После окончания лицея Ильяшенко учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Стихи он начал писать в студенческие годы. После окончания университета он получил служебное назначение в Вашингтон. Там его застала Февральская, затем и Октябрьская революция. Домой он решил не возвращаться. В 1920-е Владимир Степанович работал в эмигрантских организациях.
Читать дальше 'Владимир Ильяшенко (1887—1970). Публикацию подготовил Вадим Крейд'»
Александр Хабаров — поэт государственного значения, поэт Российской Империи — той, где земная страна срастается с небесной, без шва, без зазора; переливается одна в другой, одна в другую, сверкает слезами и радостями, скорбями падений и обновлениями духа, жестью и золотом (так названа одна из книг Хабарова). Страна эта и вокруг него, и внутри, в сердце поэта, вселенском сердце, вмещающем всё: и великие взлёты, и великие бездны мучительно любимой Родины, той единственной страны в мире, которой «нужен Бог». Он пишет: «мой голос тих в пучине ора» — неправда, этот неповторимый хрипловатый низкий голос, эту исповедальную, редкую по искренности и глубине поэзию расслышит всякий русский человек, в любом хоре пиитов, потому что «я плакал — значит тоже пел»! Потому что — «вот Родина моя — в полночном храме»…
Читать дальше 'Наталья ЛЯСКОВСКАЯ. Бессмертники сквозь смерть произрастут. О поэзии Александра Хабарова'»

Леонид Зорин
Знаменитому острослову Эмилю Кроткому (Эммануилу Яковлевичу Герману) принадлежит следующий афоризм: «В день его девяностолетия сослуживцы поднесли ему вечное перо». Говоря о писателе и драматурге Леониде Генриховиче Зорине, которому в ноябре 2018 года исполнилось 94 года, а количество написанных им пьес, романов, повестей, киносценариев, стихотворений превысило цифру 100, позволим себе внести в афоризм некоторые изменения. Не «В день его девяностолетия», а «в раннем детстве», и не «сослуживцы», а классики советской литературы − Максим Горький и Исаак Бабель.
Леонид Зорин родился в городе Баку в семье служащего Генриха Зальцмана. Будучи ещё ребёнком, Леонид начал писать стихотворения. Первая книга его стихов была издана, когда мальчику исполнилось девять лет.
7 июня 1934 года в подмосковных Горках, на даче, когда-то принадлежащей промышленникам Морозовым, произошла личная встреча юного поэта с Максимом Горьким.
«Но самое невероятное чудо, определившее, как это выяснилось, всю жизнь, случилось, когда вопреки препятствиям и обстоятельствам все состоялось, нас известили: седьмого июня надо нам быть на Малой Никитской, оттуда отправимся в Горки к Горькому.
В назначенный день, в назначенный час, мы были в кабинете Крючкова .(ПётрПетрович Крючков − секретарь Горького)Он сообщил, что вместе с нами едет еще один человек.
Спутник явился почти мгновенно. Среднего роста, плотный, улыбчивый.
И сразу же представился:
— Бабель…
Читать дальше 'Лев ГУРЕВИЧ. Наш современник Леонид Зорин'»
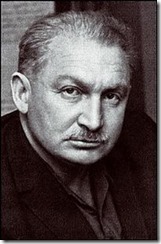
Начинаю то ли лекцию, то ли концерт. О поэтах Великой Отечественной. Включаю когановскую «Бригантину». Ребята слушают.
– Кто написал?
Молчание.
Идем дальше. Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Всеволод Багрицкий, Леонид Вилкомир, Юрий Левитанский, Семен Гудзенко, Ион Деген, Семен Липкин, Давид Самойлов, Борис Слуцкий…
О ком-то слышали, но не более. Потом подходят.
– Спасибо, – говорит мальчик лет примерно двадцати пяти. – Мы об этих поэтах вообще почти ничего не знали. Ни в школе, ни в институте нам о них так не рассказывали.
– Конечно, – добавляет другой. – Только День победы да День победы. Надоели со своим Днем победы, слышать невозможно.
Понимаю. Политики да чиновники все способны испоганить. Но все равно слова эти режут ухо. И что им ответить?
Читать дальше 'Ефим БЕРШИН. Точка опоры. К 100-летию Бориса Слуцкого'»
Отхожу от окна, оставляя там серый февральский день, дождливый и ветреный.
Возвращаюсь через час – в зиму.
Дождь обернулся снегопадом, перетёк легко и незаметно, и не понять, откуда и куда падает снег. Из ниоткуда – в никуда.
Выйти бы в старый парк, постоять под огромными лапчатыми туями, укрытыми снегом, побродить по дорожкам, оставляя первые следы на девственном снегу, ни о чём не думая, никуда не спеша – просто так. Из ниоткуда в никуда.
Жизненное дерево – так называют тую на далёкой родине. Не случайно, видимо, посажены эти деревья здесь. Да и всё здесь не случайно. Не верю в случайности. Недосуг. На этих дорожках случайных людей нет, все хорошо знают, откуда, куда и зачем надо спешить: пациенты, врачи, студенты, чьи-то родные и близкие. Здесь всё работает, всё живёт как единый, хорошо отлаженный, цельный механизм. Читать дальше 'Людмила ШАРГА. Из ниоткуда в никуда'»

Кто сказал, что наше прошлое принадлежит нам?
Если бы это было так, то мы стали бы властелинами своих воспоминаний.
Это так просто –… забыть.
Но не мы властны над прошлым – только оно имеет над нами безграничную власть.
Читать дальше 'Людмила ШАРГА. Затерявшийся взгляд. Повесть'»
…это порок русского духа: мы слабеем, когда мы не в сплочённых (и командуемых) массах.
А. Солженицын. «Угодило зернышко»
После триумфального явления народу солженицынского шедевра «Один день Ивана Денисовича» его автор почти сразу же скрылся за политическими тучами. Из которых время от времени доносился сначала гром и лишь затем молния — сначала появлялась разгромная статья и лишь с большим опозданием, на папиросной бумаге, на одну ночь, а то и на полчаса кто-то из друзей подбрасывал едва различимый текст, породивший эти громы. Сейчас уже и не припомнить, что в них было, в памяти осталось лишь собственное ощущение: так их, режь правду-матку!
Однако Солженицын и после высылки продолжал резать правду-матку и либеральному Западу, и либеральным западникам, и понемногу из-за туч начали доноситься голоса, объявляющие Солженицына и националистом, и монархистом, и будущим аятоллой, но все как-то нечетко, все клочками. Только «Красное колесо» прикатилось к нам в полном объеме в перестроечную пору, когда появилась возможность различать и художественные свойства: историческая составляющая необыкновенно интересна, лирическая из рук вон плоха.
Читать дальше 'Александр Мелихов. Пророк, спустившийся на землю. Солженицын-политик'»

Изойду слюной, пока пожарим эти стейки. Мясо – вот, что собственно и мотивирует меня иногда проводить время с людьми. Оно сближает. Сегодня еще и пара важных временных и пространственных обстоятельств: бабье лето, выходной день, дача на берегу Днестра, три ряда созревших помидор сорта Черный принц. И то самое мясо. Свиная шея, купленная утром на Привозе у болтливой тетки-перекупщицы в выцветшей косынке, умело строящей из себя колхозницу, а на самом деле всю жизнь проживающей на Новосельского. Сто семьдесят гривень за килограмм – так нагло дорого. В том куске было килограмма три, не меньше, с тонкими прожилками, в меру жирное, розовое, свежее. При мысли о хорошем мясе я всегда улыбаюсь. А что еще в этом мире может по-настоящему радовать?
Читать дальше 'Елена АНДРЕЙЧИКОВА. Меланхолия и мясо'»
2.1. Год Олега Соколова
Понимаю, что неправильно ставить большой текст в фейсбук. Удержался, не предложил его в первый день Нового года.
Но мне очень хочется, чтоб год столетия со дня рождения Олега Соколова, стал годом его памяти, его реального признания.
Очень много сделал этот художник, поэт, чтобы воскресить настоящую культуру
Познакомился я с Олегом Аркадьевичем Соколовым в 1956 году на вечере-диспуте
Одесском политехническом институте, в котором учился. В тот вечер я делал доклад об искусстве – от импрессионизма до кубофутуризма, сюрреализма, абстракционизма. Мое выступление с использованием репродукций длилось четыре часа (чем не Фидель Кастро). И было мне тогда 20 лет. В зале, среди нескольких сотен слушателей, были художники Олег Соколов, Юрий Егоров, Владимир Власов. Читать дальше 'Евгений Голубовский. Странички из фб-дневника'»
1.
Если заново войти в галерею, где вокальная тема
и элегия одежды Гальяно, а не поступь Голема,
или тёплая хрустящая буханка,
прохладная крынка,
это тешит, но рассказывает мало о змее Лабиринта;
там, во славу гильотины прогресса, по углам не уловки,
а останки циркулярного процесса, слепые обломки
отражений, что когда-то обитали в тупиках миражей,
зеркала, отражения зеркал на зерка… отраже…
Читать дальше 'Александр ХИНТ. 8 х 8'»
Теперь Соня уходила с работы ровно в шесть. Спокойно выключала компьютер и смущенно говорила коллегам:
– Филипп скоро вернется, а мне еще ужин приготовить нужно.
Сотрудницы отдела, в основном дамы за пятьдесят, хмурились, но относились понимающе: девочка, наконец, личную жизнь устроила.
Соня стала собираться за несколько минут: поправить макияж, провести расческой по волосам, ловко завязать на шее шарф причудливым узлом. Попрощаться со всеми и двигаться быстрым шагом к лифту. На улице она переставала спешить – на самом деле времени до возвращения Филипп было достаточно.
Она всегда называла его только полным именем. Не звать же тридцатипятилетнего успешного архитектора Филей?! «Спокойной ночи, малыши» какое-то! Можно было бы звать Фил, но это звучит несолидно. Себя в паре с ним называла Соня. В начале их отношений она попробовала разные варианты: София, Софья, даже Софи. Но лучше всего с его именем сочеталась ее смешная уменьшительная форма. Соня и Филипп. Филипп и Соня. Он – сильный, основательный, надежный. Она – легкая, мягкая, способная на самоиронию. Даже в именах дополняют друг друга.
Читать дальше 'Ольга МИШУРОВСКАЯ. Соня и Филипп. Рассказ'»
Она проснулась от озноба, потрясла головой. В комнате холодно. На улице трескучий мороз. Кажется, что стены промёрзли. Странное происходит морозной ночью.
Что-то толкнуло её в плечо. Грубо, резко, словно кто-то хотел разбудить её, но она же одна, никого нет рядом. Бессонница уже посещала её, и не однажды, но в этот раз причиной была точно не бессонница, что-то другое. Всё, больше не усну, а впереди долгая бесконечная ночь. В шесть утра нужно вставать, чтобы ехать в командировку, а тут проснулась непонятно зачем, – подумала Вита. Накинув длинный шарф, она поднялась и вышла из комнаты.
В бесконечном коридоре тускло светилась лампочка Ильича. Она всегда светила, даже летом в белые ночи. Соседи по коммуналке спят. Никто не шумит, ни наверху, ни внизу. Вита щёлкнула выключателем, яркий свет заставил ее зажмуриться. Старая проводка, старые выключатели. Всё щёлкает, будто взрывается. Вдоль стены несколько столов в ряд, по углам два холодильника. Самые смелые соседи не боятся оставлять главное хранилище продуктов на общественной кухне. Вита тоже смелая. Её холодильник слегка дребезжит от пустоты. Продуктов в нём нет. Хозяйка из Виты никудышная.
Читать дальше 'Галия МАВЛЮТОВА. «Нежная, ласковая девочка моя!»'»
Хорошо там, где нас нет. И никогда не будет.
Русская пословица
«Васька, дружище, здравствуй!
Шлет привет тебе из самого Берлина сосед твой бывший и корефан закадычный – Мартын. Только теперь не Мартын я уже, а Мартин, как меня, на западный манер, перезвали хозяева. Ты не смейся, тебя бы тут тоже в два счета перезвали. Не был бы ты никаким Василием, откликался бы на Базиля. Это в лучшем случае.
Вон попугая нашего, Петровича, новая хозяйка вообще Зефиром кличет. Правда, он на это кондитерское имя принципиально не отзывается. Не то, что мои бывшие хозяева. Те не только фамилию всей семьей сменили, но даже имена свои перекрутили: дядя Миша стал Михаэлем, тетка Людка – Людией, Андрюшка – Андреасом, Варька – Барбарой. Чувствую, ты сейчас ухохатываешься. Я тоже помирал со смеху, услышав, как наша толстуха представилась кому-то по телефону: «Барби!»
Читать дальше 'Татьяна ОКОМЕНЮК. Берлин – Орловка – Берлин. Рассказ'»
Как прибой на песок, накатил пятистопный анапест,
это море волнуется, раз, и ложится в строку,
набежавших шестнадцать, отхлынувших разом пятнадцать
полновесных слогов, что следов по сырому песку,
эти камешки, эти бесценности перебирая,
перекатывая на песке перекатную голь,
повторением выдохов-вдохов тоску усмиряя,
в бесконечной своей пустоте растворяет, как соль,
беззаботный прибой, накатавший корявых парабол,
начеркал и смахнул, и затем накарябал опять,
это море волнуется здесь низачем, для масштаба,
чтобы всё и ничто можно было друг с другом равнять,
эти птицы к иным берегам улетают счастливым,
на блаженно-полуденные острова, никуда,
где качаясь, бормочет нездешним приливом-отливом
и течёт, как песок, осыпается время-вода.
Читать дальше 'Слава БАШИРОВ. Двойник'»
Лид: Ганна Шевченко – прекрасная молодая женщина, умная, талантливая, успешная. Было бы интересно разобраться в том, как возможно соединение этих качеств в одном человеке, поэтому мы поговорили с Ганной о различных аспектах ее бытия: о прозе – сентиментальной и интеллектуальной, о разнообразной поэзии, о ее питомце черепашонке Чебурашке и условиях его содержания, о любимых книгах и о многом другом. Вдруг что-то прояснится!
___________________________
НД: Ганна, когда ты работала в отделе сентиментальной прозы редактором, то должна были читать самотек так называемой женской прозы. Могла бы ты поделиться своими наблюдениями: какой герой сейчас в тренде? Что требуется от мужчины, чего ожидают от женщины?
Читать дальше 'Ганна ШЕВЧЕНКО. «Если уж мечтать о славе, то о мировой…» Интервью ведёт Надя Делаланд'»
Сколько песен не спето…
Умолкла струна…
Николай Скрёбов
Наверное, только счастливые люди поют по утрам.
Таким был и Георгий Булатов. И по рассказам родных, не смотря на все пережитые в жизни им трудности, он всегда пел. Казалось, откуда он столько песен знал?
Но, видать, душа в нём пела, а песня всегда найдётся.
Елизавета Георгиевна, его мама, очень много души и сил вложила в сына, воспитывая его разносторонним и совестливым человеком.
И он платил ей только искренней сердечной благодарностью.
Читать дальше 'Анатолий ТОКАРЕВ. Прерванная песня. Памяти Георгия Булатова'»

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения одного из известных писателей шестидесятых годов прошлого века Бориса Балтера . Он, как и герои его лирической повести «До свидания, мальчики!», принадлежал к поколению, вступившему в войну чуть ли не со школьной парты.
20 августа 1936 года будущий писатель после окончания евпаторийской средней школы №2 поступил в Ленинградское Краснознаменное училище им. Склянского, которое окончил в конце 1939-го и в январе 1940 года уже командовал ротой на Финский фронте, был ранен, обморожен, контужен в голову. Но, проведя почти три месяца в госпитале, Балтер продолжил военное образование и в июне 1941-го ушел на Отечественную войну командиром роты отдельного артиллерийско-пулеметного батальона. Окончил войну в 1945-м начальником штаба учебно-стрелкового полка, куда был откомандирован в результате тяжелых боевых ранений.
Читать дальше 'Виктор ЕСИПОВ. Борис Балтер: «Судьёй между нами может быть только время!». Предисловие к книге «Борис Балтер. К 100-летию со дня рождения»'»
В понедельник ноябрьского утра девочка села в электричку. Точно в четвертый вагон от хвоста – место назначенных свиданий или встреч невзначай с бывшими одноклассниками, теперь уже московскими студентами.
Вагон был холоден и пуст. Все уехали ранними поездами, а ей в этот раз подфартило: прослушивание у знаменитого скрипача, старого профессора, назначено на час дня.
Она облюбовала местечко у окна. Уложила на полку скрипичный футляр, нотную папку прислонила к стене и облокотилась на нее в сомнениях: что лучше – дремать, читать или играть?
Вчерашние бывшие лужи наглухо задраены ледком. Никто не бежал, не опаздывал, будто бы местные граждане вдруг стали невыездными,– да и какая нужда уезжать от этой синевы небес, незатронутых ветрами, от несуетного, быстро сходящего на нет дня. На платформе скучала пара сторожевых дворняг. Может, кого-то проводили, а теперь ждут не дождутся… С ящиком мороженого к головному вагону направилась матрешечного вида продавщица в белом халате, натянутом поверх пальто.
Читать дальше 'Галина КЛИМОВА. Девочка со скрипкой. Отрывок из романа «Юрская глина»'»

Художник Михаил Качуровский (1948) (из частной коллекции)
Был холодный осенний вечер с неприятно-влажным морским ветром. Ветер дул с океана на палубу, принося с собой пузырьки соленой воды. Одинокая луна бросала на воду бледные тени, образуя тонкую серебряную дорожку. Но вскоре свет ее стал почти невидимым, и луна исчезла за облаками. Тяжелый туман полностью стер границу между небом и водой. Сгустились ночные краски, и ночь слилась с темными водами океана. Небольшие мерцающие звездочки, как и сама луна, утонули в безбрежном океане, и тихая музыка волн создала атмосферу покоя и тишины. Казалось, что даже в воздухе звучала их мелодия и таинственные звуки холодной осенней ночи.
Они стояли на палубе вдвоем. Он пристально за ней наблюдал, заинтригованный странной манерой ее поведения и броской, несколько вульгарной внешностью. Губы ее были ярко накрашены, а подведенные глаза безразлично скользили по его фигуре, как если бы он не существовал. Женщина была бледна, но на впалых щеках еще были видны остатки румян. На голове удобно сидела шляпка с большими полями, отбрасывая тень на лицо, когда она наклонялась, чтобы достать платок из небольшой элегантной сумочки.
Незнакомка явно пыталась произвести на него впечатление, болтая о чем-то без остановки, и при этом постоянно и нервно одергивая длинный жакет. Он заметил, что когда она говорила, едва двигая губами, брови ее странно поднимались и опускались в такт ее речи.
Читать дальше 'Елена Дубровина. Осенняя мгла'»
Жить в краю этом хмуром, в Евразии сумрачной трудно.
Всё же есть здесь и радости. И у меня их немало.
Например, здесь рябина пылала по осени чудно.
Например, я тебя, мой родной, поутру обнимала.
Сыновей напоила я чаем со сдобным печеньем.
А когда уходили, махала им вслед из окошка.
Нынче день отличался каким-то особым свеченьем.
Разве есть на земле неприметная мелкая сошка?
Что ни особь, то чудо и дар, и судьба, и явленье.
Разве может такое простой домовиной кончаться?
После жизни земной обязательно ждёт нас продленье,
Да и здесь на земле неземное способно случаться.
Читать дальше 'Лариса МИЛЛЕР. Плата за постой'»
Так вот отчего наступает рассвет
и время приходит, которого нет
ни в памяти, ни в анналах,
и будит великих и малых.
К опасному промыслу сердцем приник –
ныряю в родимый бездонный язык
навстречу шипенью и гуду –
насущное слово добуду.
Так рыбьими тропами плыть вразнобой
и дна рокового касаться судьбой –
до самого черного ила
нам скудное время ссудило.
Читать дальше 'Александр ТРУНИН. Берестяной свет'»
Непрочную, на раз меня разбить –
вот я была, а вот меня не стало
(она была? Да нет, не может быть,
осколков мало).
Эта книга – хрупкое и драгоценное творение. Благодаря главному своему свойству – прозрачности – она, оставаясь материальной, насыщенной земной облюбованной жизнью, пропускает свет и, становясь лёгкой и светлой, приближает к миру невещественному и вечному. Эта книга воистину написана дочерью стекольщика, которая унаследовала острое ощущение грани, только её инструмент – не алмазный стеклорез, а поэзия на грани жизни и смерти.
Мир этой книги – преображённый, потому что находится в непрерывном соприкосновении с миром иным, и непредсказуемая явь, порождённая этим родством, выражена не декларативно, но словом, трепетно настигающим и удерживающим её мимолётные отблески – словом, которое свободно во имя точности.
Прозрачные края, прозрачная кровь, прозрачный ветер, прозрачная простыня небес, прозрачная ваза и даже прозрачная тьма… – появляясь вновь и вновь, этот эпитет говорит о призрачности жизни и о свете, которым пронизана жизнь, и ещё он говорит о своей привязанности к существительному – к существу материи, к земному дому.
я не жилец я просто гость
в прозрачном и немом
полете мира твоего
но я хочу домой
Надя Делаланд. Из книги
Читать дальше 'Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Предисловие к новой поэтической книге Нади Делаланд «Мой папа был стекольщик» (Москва, «Стеклограф», 2019)'»

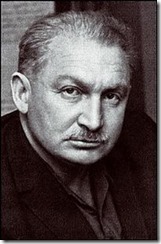

 Изойду слюной, пока пожарим эти стейки. Мясо – вот, что собственно и мотивирует меня иногда проводить время с людьми. Оно сближает. Сегодня еще и пара важных временных и пространственных обстоятельств: бабье лето, выходной день, дача на берегу Днестра, три ряда созревших помидор сорта Черный принц. И то самое мясо. Свиная шея, купленная утром на Привозе у болтливой тетки-перекупщицы в выцветшей косынке, умело строящей из себя колхозницу, а на самом деле всю жизнь проживающей на Новосельского. Сто семьдесят гривень за килограмм – так нагло дорого. В том куске было килограмма три, не меньше, с тонкими прожилками, в меру жирное, розовое, свежее. При мысли о хорошем мясе я всегда улыбаюсь. А что еще в этом мире может по-настоящему радовать?
Изойду слюной, пока пожарим эти стейки. Мясо – вот, что собственно и мотивирует меня иногда проводить время с людьми. Оно сближает. Сегодня еще и пара важных временных и пространственных обстоятельств: бабье лето, выходной день, дача на берегу Днестра, три ряда созревших помидор сорта Черный принц. И то самое мясо. Свиная шея, купленная утром на Привозе у болтливой тетки-перекупщицы в выцветшей косынке, умело строящей из себя колхозницу, а на самом деле всю жизнь проживающей на Новосельского. Сто семьдесят гривень за килограмм – так нагло дорого. В том куске было килограмма три, не меньше, с тонкими прожилками, в меру жирное, розовое, свежее. При мысли о хорошем мясе я всегда улыбаюсь. А что еще в этом мире может по-настоящему радовать?





