ЕЛЕНА МАТУСЕВИЧ ● МИНИАТЮРЫ ● ПРОЗА
 ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
У одной женщины умер сын. Был и нету. Что еще сказать? На похоронах и то не знали, что сказать, чего там. Ничем не интересовался, ни с кем особо не дружил, работать ему было лениво, учиться ему было никак. Учителя говорили, что не старался. Мозги мутные, глаза пустые, мало ли таких? В училище тянули, дотянули, вытянули. Контрольные за него написали, не чаяли, как отделаться. Отделались. А он, на тебе, с собой покончил. Сдуру, что ли?
Мать по справочнику церковь нашла, приехала. В черном, конечно. Плачет. На дороге нашли, на третий день. Понимаете? Пуля в голову. Девятнадцать лет. Понимаете? Священник молчит. Не понимает. Он обязан ее жалеть, и у него на лице мука. Мука не ее, а его. Он не знает, что сказать, ему жарко в черной рясе, и он не дождется, когда она уедет. Мы все не дождемся. Вокруг них пусто, будто круг очерчен.
Она поняла, уехала. Как все оживились.
-Вы слышали?
– Слышали.
-Совсем молодой!
-Ужас!
-С чего это он?
-Никто не знает.
– Сдуру?
Нет, не похоже. Если бы люди кончали с собой от глупости, то суицидов было бы гораздо больше, а дураков гораздо меньше, чего нет. Глупость ― залог душевного здоровья и долголетия. А он вот так.
Жил бы себе, поживал, как все. Может, сел бы, может, спился, а может, и нет. Может, и ничего бы. Живут же люди. И не такие живут. А там, глядишь, лет через шестьдесят, и умер бы, как положено, от рака предстательной железы или там прямой кишки, милое дело. А он вот так, не стал дожидаться. В такую погоду.
Погода весенняя. Мальчик принес маме букет, да только самые головки оборвал. Что с него возьмешь? Маленький. Маме жалко цветочки, такие красивые. Как же их теперь в вазу поставить? Мама гладит цветы и сыночка.
-Лето, хорошо-то как!
-И не говорите.
ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ
Мы не можем согреться. Я утыкаюсь носом тебе в плечо, а ты мне в щеку, под глазом. Твое обычно неслышное дыхание, из-за прижатого носа, теперь сопровождается легким, смешным присвистом, а выдыхаемый воздух щекочет мне ресницы. Чувствуя, что мне еще холодно, ты вытягиваешься во всю длину под одеялом, и, повозившись, упираешься своим лбом в мой. Живое, мягкое тепло щедро переливается из твоего любящего тела в моё. Загадочная, незаслуженная нежность, чистая как цвет твоих всегда заботливых, преданных и вечно тревожащихся обо мне глаз, убаюкивает меня снами о великой любви двух странников во вселенной, большого и маленького. Большой умел и знал многое, но очень от этого страдал, а маленький не умел и не знал ничего, кроме того, что он любил большого. Маленький чувствовал, что большой страдал и старался любить его ещё сильнее. Но больше уже было невозможно, и маленький серьезно заболел от своей слишком большой любви. И чуть не умер, также тихо и ласково как жил. Потому что маленький не боялся любить до смерти. И тогда наступила очередь большого еще сильнее любить маленького.
Мы согрелись, ты давно спишь: моя няня, мой дружочек, мой кот.
РЕКВИЕМ ПО ГОЛДЕ
Вы зачем эту крысу завели? (о хомячке).
Лучше уж собаку, та хоть укусить может.
Чего я сижу? Надо Мишке звонить. Пока он долетит, дотянет ли? Сын смотрит на то, что осталось от некогда мощного, наводившего на него трепет, материнского тела — куча. Телефон на стенке. Белый, все белое. В жизни она в такой чистоте не жила. Это все он, сын. Обеспечил лучший уход. Не жалел средств.
Сын, сын … У меня же их два. Нет, три: Миша, Владик и Миша. Мы гуляли. Нет, в гастроном шли. Визг, чей это визг? Кто это так визжит посреди улицы? Улица в Ленинграде. Староневский. Это Мишу задавило. Трамвай. Женщина кричала на меня, а что кричать?
Голод, детский голод вернулся к ней в последние годы. Лучше в нас, чем в таз, слыхали вы такое? Она и всегда ела, будьте нате, а тут накормить невозможно. Растолстела, ходить перестала.. А сладкое прячет. Сестры, пока спит, повытряхнут. И все есть просит, жалостно так.
А он все есть просит, брат Федя. Плачет, всегда был слюнтяй. Люк. В люках тепло. Как сейчас. Свернулся, упершись головой в трубу, и воет от голода.
-Заткнись, никто не услышит. Или возвращайся к мачехе! Там накормят, небось.
-Не, я с тобой.
-Со мной! Что, со мной? Жди тут.
Пошла. Рослая, как мужик, лет на двадцать выглядит, ни в жизнь не скажешь, что только четырнадцать. Сама по себе, если младшего брата не считать. Нэп. Украсть есть чего, не военный коммунизм. Опасно только, прибить могут. Били их уже, но она больше не дастся. Не маленькая. Рынок, лавки, помойки. Ей было без разницы. Все, что не имело отношения непосредственно к выживанию, значения не имело. Никогда. Она не знала, какая там революция и против кого. Все революции и войны были лично против нее, против Голды.
И она несет брату в люк вонючий пакет. По дороге отщипнула себе кусок получше. А что? Она же добыла. На тебе, ешь. Брат притих в углу, жует. Заснуть нельзя, только по очереди, провалишься к черту. Ноги согнуты, спиной упираться в трубу. Двадцать девятый год. Спать хочется.
Спать хочется, устал я. Не мальчик. Духота летом в Бостоне. Мишка сказал, что вылетает. И то ладно. Денег не даст, наверное. Все один, всегда он один. Как мама, он ― как мама, именно он. Еврейский сын любит маму. И он любил. Чем дальше, тем больше. Чем бессвязней и бессмысленней она становилась, тем сильнее он ее любил. Можно сказать, только теперь и полюбил. Неделю назад еще, как и три года назад, как и пять лет назад: «Мама, ты меня узнаешь? Я кто?» Мотает головой: «Мужчина». Он прилетал из другого штата, мотался чуть не каждый месяц, и слышал: «Чего вы тут сели? Идите домой». Спит. Она все время спала. Ей кололи что-то, чтобы не болтала ерунды, и ей хотелось спать. Всегда. Она храпела, а он сидел у ее кровати. Часами. Навещал. Сын.
Сын, старший, любимый, женился на гойке. Бестолковая, смотреть тошно. Только и может, что на работу ходить. Любимое слово «боюсь», а видала ли она, чего бояться-то? Отец, правда, был еврей, но толку от этого никакого. Мать забаловала ее, а денег не скопила. А в жизни для баловства деньги нужны. Это только в детстве бесплатно баловаться можно, да и то, смотря в каком. С медалью закончила. Что она, что сын — два медалиста. Медалями будем завтракать, обедать и ужинать. Мать у ней, такая приличная женщина, а ходит в чем? Мне и то жалко. Так ведь им и давать-то ничего неохота, беднее себя найдут и отдадут.
Но я дам, ради внучки дам. Внучечка, ягодка, чтоб у вас у всех повылазили глаза! Как посмотрит, рублем подарит, котинька моя сахарная. Вся в бабушку Галю. Вы не видела мою внучку? А что вы вообще видели в этой жизни? Иди сюда, красота моя, дядя тебе сейчас место уступит. Что вы тут сели одной жопой на два места? Уступите место ребенку, пока я вас еще прошу. Не в них пошла! Дурой меня обозвала. Гениальный ребенок! Та бабушка покраснела, разохалась, извинись, говорит, Леночка, перед бабой Галей. А, что, скажите, ребенок сказал не так? Восемь лет, а такая умница! Рядом с ней, кто же я еще? Дура я и есть неграмотная.
Эти шлемазлы жалуются, что ни спасибо, ни пожалуйста из нее не выбьешь. Куколка моя, им надо, пусть они и говорят. Много они за свои спасибо разбогатели? Если бы Мишка мой с работы не тащил, во что бы ты была одета, котя моя ненаглядная? В то, что в магазине? Так у них и на это нету. Делай, что хочешь, никого не слушай, и будешь жить как человек. Тебе спасибо говорить будут. Нашу кровь не перебьешь! Май кинд, наш характер!
Характер, он либо есть, либо его нет. Если он есть, все кричат, что он тяжелый. Вам тяжелый, а нам в самый раз. Как же! Все говорили, у матери характер был тяжелый. Мама модница была, красавица, растолстеть боялась, умерла в двадцать шесть лет от аборта. Четвертый ребенок в двадцать шесть лет, смеетесь вы? Ну, не хотела. А кто их хочет? Особенно, когда тебя никто не спрашивает? Им с братом было семь и шесть. Сестра еще была маленькая, умерла. И она, Голда, вся в мать. В нее, да, я и сама знаю, без вас! Молчать и терпеть, это для Нинки, жены брата, а она, Голда, терпеть не будет. Дудки! Лучше сдохнуть. Они с Федей пробьются, а сдыхают пусть другие.
Федя все спит. Давно ее очередь спать, но разве его разбудишь? Нет, уж лучше подъезд. Там хоть разогнуться можно. А в подъезде ей казалось, что уж лучше люк, там теплее. Так и перебегали они из подъезда в люк и из люка в подъезд. Родни много, а никто не взял. Времена были ненадежные, и дураков, чтобы взять к себе парочку оборванцев, не нашлось.
Не нашлось и не надо. Так оно и лучше, спасибо говорить никому не пришлось. Она в прислуге, и, по сравнению с люком, сундук в коридоре ―гигантский шаг вперед. Здоровенный такой сундук был, в углу, под вешалкой. Ляжешь, пальто столько сверху понавешано, прикроют, даром, что без одеяла. Тепло. От сундука к койке, от койки к своему углу, от угла к комнате, от комнаты к двум, от коммуналки к квартире … побольше. И еще побольше. Тесно! Тесно Голде на Охте. Тесно Голде на белом свете.
Тесно Голде. Свет большой, а Голда одна. Ни свет не видал Голду, ни Голда света. Что она, хуже других? Никогда. Весь советский блок исколесила, это с ее-то паспортом и акцентом. Феномен. Легенда. Из любого учреждения делала день открытых дверей. Наткнулась на железный занавес, дальше не пускают. Ну, так ей еще никто не указывал, куда ей можно, а куда нельзя. Не поздно еще, шестьдесят два только, пробьемся. Муж давно в могиле, внучку еле застал. Бессмысленный был человек, ни заработать, ни украсть. Так, хомут. Но хоть не перечил. А одной ей не пристало, одна она и сроду не была. Так у сильной-то кобылы никогда в седаках недостатка нет. Да и мужчин любила, как другие выпить. Не могла отказать себе в удовольствии.
Нашла старую любовь, троюродный брат, свой. Своих она по запаху отличала. За ухом. За своих ― глотку разорвет, зубами, без инструментов. А не свои ― так уйди с дороги. Сам. Тут и свои-то, дай волю, из-под носа унесут, а не свои… Видала она, что делают не свои. А запах не подведет. Запах и деньги. Запах для своих, деньги от чужих.
Укатила в Тель-Авив. В Тель-Авиве было хорошо, и она расслабилась от неожиданности. Тепло, дом большой, муж знаменитый, лауреат чего-то там, умница. Он и всегда был умница, тогда, до войны. И сейчас, ничего не просил, ни о чем не спрашивал. Она оценила. Гордилась, млела, притихла даже. Любила его. В первый раз. Посмотрела-таки свет, накаталась: Франция, Испания, Италия, Швейцария (внучке часы), Греция, Турция, Египет, Бразилия…
А как муж скончался, пусть земля ему будет пухом, душно стало Голде в Израиле, совсем сморило от жары, да и для здоровья вредно. Семьдесят пять лет все-таки. И страна маленькая, повернуться негде. Села Голда на самолет и в Америку. Что, там, в Америке, места ей не найдется, что ли? Поехала к подруге в Бостон. Сын чуть не рехнулся, добиваясь, чтобы ее не выслали. Все кричал, что без документов нельзя. Что вы из всего делаете проблему? Подруга умерла, муж остался Голде. Хороший муж, приличный такой, нейрохирург, из Склифасовсого, знаете? В Ленинграде. Там еще бюст кому-то во дворе стоит.
И этот муж умер. А Голда жива. Живет, телевизор смотрит. Брата Федю в Бостон перетащила, чтоб не так скучно было одной. Федя, Файфиш, вспомнил беспризорное детство, в карты весь дом обыгрывает. Внучка с сыном приехали навестить, с этим, который им машину вел. Повела всем показывать. Как в детстве. Вы видели мою внучку? Ну, что вы сравниваете? Моя внучка, это — да, сами посмотрите, а ваша? И говорить нечего. Котя моя, будешь так худеть, я скоро тебя не найду. Это твой новый муж? Он еврей?
-Он француз.
-Я тебя спрашиваю, если он еврей.
Душно. И так спать хочется с самолета. Глаза закрываются. И всегда я эту разницу во времени так плохо переношу. А с возрастом так вообще. В Париже сейчас четыре утра, самый сон. Надо, однако, сделать скорбное лицо, соответствовать. Брат такую рожу скорчил, щас заплачу. Шипит на меня, что опоздал. К чему тут можно опоздать?
-Сестра, что она бормочет?
-Да вот, уже какой день о внучке какой-то причитает, про Аляску какую-то, не поймешь. Внучка, говорит, у нее там. Профессор. Все позвонить на Аляску хочет, и откуда только взяла? Совсем плоха. Мы бы и внимания не обратили, но очень упорствует. Вон и сейчас все на телефон показывает, беда.
Ленку вспомнила. С чего бы это? Меня вот не узнала и не надо. Что там узнавать? Она забыла, может, и он забудет. Не надо, ничего не надо. Скорее бы уже.
Сестра плачет, бабушку жалко. Кто мог подумать, что она вспомнила? А мы-то думали, она бредит. Хорошая была бабушка, смешная, смирная. Все в куклы играла и сахар просила. Всем была довольна.
Из горла пошла какая-то слизь. Подбежали сестры с трубками и отсосами. Меняют белье. Младший сын отвернулся. Зато лицо само сделалось по всей форме. Если не входить в нюансы, вполне подойдет. А если смотреть на белый телефон у изголовья, то и взгляд получится как бы в том же направлении.
Что это с ней? Владьке руки целует. Благодетель. Три года ни того, ни другого не узнавала, а тут просветление у нее, что ли?
-Поцелуй мать.
-Не толкай меня, что ты можешь понимать?
-Целуй, говорю. Это она тебе, урод.
Ему? Сыночек, сыночек. Дявяносто лет прошло и вот, стал сыночком? Ему, сомневаться нельзя, что ему. Раз по имени назвала, значит, ему. Миша, это ведь он? Он? Или нет? Тот ли Мишенька? Тот, другого нет. Остался только этот: седой, злой, иностранный. Сгорбленный старый мальчик на казенном стуле. Ее мальчик. Мама? Мама!
Об Авторе: Елена Матусевич
Елена Мазур-Матусевич живет на Аляске, где она преподает французский язык и литературу в университете штата. Она автор ряда литературных произведений разного жанра. В 2004 году в Париже у нее вышла книга «Золотой век французской мистики». Елена также и талантливый художник, представляющий свои работы как на персональных художественных выставках, так и на различных вернисажах. Летом 2010 года в Нидерландах вышла ее новая книжка, посвященная Арону Яковлевичу Гуревичу, выдающемуся российскому историку. Для тех, кто читает по англйски: Saluting Aron Gurevich: Essays in History, Literature and Other Related Subjects, Brill Academic Publishers, 2010. Ее статьи по–английски и по-французски можно искать в сети по автору Yelena Mazour-Matusevich. Среди них самые интересные, наверное, "Почему русским не надо читать Сартра," и "О фундаментальном влиянии Ницше на Михаила Бахтина."


 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы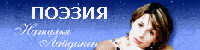 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО


Спасибо, Елена, за Ваши миниатюры! Понравилось!
Талантливо. Настоящая литература!