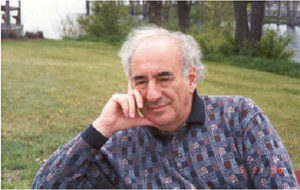1.
Андрею Степановичу исполнилось семьдесят восемь лет. На следующее утро, после дня рождения, он сказал жене, что боли в груди прекратились, и он чувствует себя на тридцать лет моложе. Жена, Люба, услышав, что мужу стало легче дышать, и его не тревожат боли, прижалась к нему, и стала поглаживать его руку под одеялом.
– Это всё лекарства для сердца, – сказала Люба.
– Нет, это сон, – твердо заявил муж.
– Сон! – удивилась она.
– Да.
– Я рада, что тебе наконец-то начали сниться сны. Они успокаивают. А что тебе приснилось, помнишь?
– Также ясно, как это солнечное утро, – ответил он.
– Расскажи мне. Он был длинным?
– Не очень.
– Но приятным? Что ты делал во сне? – допытывалась жена, фантазируя в своих мыслях сон мужа.
– Я умер.
– Как это, умер? – она невольно затихла, с ужасом прислушиваясь к стонам за стенкой.
– Умер и все. Это просто, этого не надо бояться.
– Если ты умер во сне, значит наяву все будет хорошо, – сказала жена, ближе прижимаясь к мужу.
– Глупая, неужели ты не понимаешь? – он забрал свою руку из ее объятий. – Это был вещий сон.
После минутной тишины он почувствовал влагу на своем плече, – жена тихо плакала, не говоря ничего.
Несмотря на то, что слова Андрея Степановича были сказаны в комнате рано утром, к вечеру уже вся коммунальная квартира, где проживали шесть соседей, знала о вещем сне. Весть о том, что в коммуне скоро появится покойник, – ибо никто из соседей не сомневался, что сон был вещим, так как все уже полгода знали о тяжелой болезни Андрея Степановича, знали и чувствовали скорый приход смерти, – никого не удивила и не напугала.
Смутила и расстроила новость лишь Бориса Петровича, у которого вот уже полгода не было напарника для игры в шахматы. Он нашел лишь одного игрока, способного сыграть с ним в ничью и даже выиграть, но Андрей Степанович заболел, и Борис Петрович, этот скряга и ворчливый пенсионер, бывший заведующий кафедрой математики, стал невыносимым молчуном. Он заперся в своей девятиметровой комнате, где окна выходили во внутренний двор, и не желал никого видеть, лишь изредка выходил по необходимости, когда в общем коридоре никого не было.
В шесть часов вечера в комнату Андрея и Любы постучались. Это была подруга Любы, Надежда Абрамовна. После двадцатиминутного перешептывания в углу на диване, в процессе которого Андрей Степанович молча лежал на кровати, в другом углу комнаты, с закрытыми глазами, и спал или делал вид, что спит, подруга Любы вышла, озираясь на лежащего с загадочным выражением лица, словно она увидела святого.
Стоны за стенкой возобновились, и жене показалось, что это не ее муж готовится к смерти, а соседка, которой исполнилось семьдесят четыре, ее родственница. Арина, чьи стоны они слышали почти каждый день и ночь, болела ногами – проклятая подагра большого пальца левой ноги совсем замучила ее. Соседям было жаль одинокую соседку, и они навещали ее, из жалости к мучениям женщины они помогали ей, ходили за покупками. Но стоило им уйти, и в коридоре наставала тишина, стоны замолкали и вновь возобновлялись, когда кто-нибудь ходил по коридору.
На следующий день, после того, как весть о вещем сне распространилась до самых темных и одиноких уголков коммунальной квартиры и пропитала все немногочисленные квадратные метры этого убого жилища, где ремонт уже сами жители забыли, когда делали, в комнату Андрея Степановича постучали дважды. По голосам Люба поняла, что это их друзья, супруги Гордиенко, Федор и Людмила.
Супруги сели за круглый стол, стоящий посередине комнаты, и, развернув стулья к кровати, где лежал умирающий, с нескрываемым любопытством паломников и с родниковой прозрачностью слепой веры уставились на Андрея Степановича.
– Тебе действительно приснился этот сон? – осторожно спросил Федор Александрович, хотя он не сомневался в новости, которую передала ему жена, узнавшая, в свою очередь, об этом от Надежды Абрамовны.
Андрей Степанович выпучил губы и нахмурил брови, его взгляд буравил серый потолок, где местами паутинкой нарисовались трещины.
Жена Федора облизывала губы, покусывая их, и с нарастающим интересом поглядывала то на мужа, то на Андрея Степановича.
Вместо Андрея Степановича заговорила его жена.
– Сон приснился в ночь после его дня рождения.
Андрей Степанович вынул руки из-под одеяла и опустил их на грудь.
– Даже болезнь отступила, – осторожно добавила Люба.
– Это правда?! – удивился Федор Александрович. – Такое случается раз на сто тысяч. Ты видел, как ты умер?
– Нет, но … я почувствовал … – начал Андрей Степанович неуверенно.
– Что, что ты почувствовал? – с нетерпением спросила Людмила.
– Не знаю, это было необычно, что-то легкое, – ответил, задумавшись. Андрей Степанович. – Какое-то сияние, – добавил он после минутной паузы.
– Это знак Господа, – сказала неуверенно Люда, вынимая из своей сумочки небольшую книжечку. И, разворачивая ее золотым крестом, изображенном на титульной стороне, к лежащему, произнесла твердым голосом: – Это Библия. Здесь об этом сказано. Это Господь. Он знает о нас, о наших земных муках, он все видит.
– Мы с женой, – сказал Федор Александрович, пенсионер и бывший инженер-строитель, – думаем, что Он послал тебе этот сон.
– И это неслучайно, – добавила Людмила, наклонившись к Любе, словно ей одной она хотела поведать свое открытие, которое ей пришло прошлой ночью. – Ваш муж, Люба, наш проводник.
– Что за проводник? – с пренебрежительным удивлением спросил Андрей Степанович.
– Проводник между нами и Богом, – пояснила Людмила.
– Что за … – возмутился умирающий.
– Зря не веришь, – настаивала женщина.
За каких-нибудь три года, которые она с мужем начала верить в Бога, когда поняла, что выше него нет никого, и все земные и семейные жалобы лишь он один может понять и выслушать, она завербовала в веру сто шесть человек и этим гордилась. Из всех ее близких знакомых лишь Андрей Степанович и Борис Петрович сопротивлялись, а точнее говоря, они прости не обращали на нее и ее витиеватые фразы внимания. Возможно, это из-за того, что они были увлечены игрой в шахматы, когда Людмила пыталась им объяснить смысл их существования. А когда они не играли, то спасаясь от ее сладких и загадочных фраз, они сбегали с общей кухни или коридора в свои комнаты, захлопывая перед оратором дверь. Но с появлением одышки (которая нагло входила в грудь Андрея Степановича и мучила его по ночам, не давая покоя и днем) и сердечных болей, он понемногу – одним ухом и одним глазом, – начал прислушиваться к этой странной женщине.
– Бог, говоришь, навестил меня? – переспросил Андрей Степанович, все еще прожевывая медленно ее слова.
– Я в этом уверенна, – твердо сказала Людмила, кладя Библию на кровать, рядом с Андреем Степановичем.
– Я вчера тоже это почувствовал, – заметил Федор Александрович. – Мы с супругой ходили в церковь …
– Не в церковь, а в собор, – поправила его жена. – Я рассказала Господу о тебе, и попросила, чтобы он дал нам ответ.
– О чем? – спросила Люба, прижимая руки к груди от волнения.
– О том, что Андрей выбран им, он избранный.
– Наверное, это за все его мучения за последние полгода, – сказала Люба.
– И что? – спросил Андрей Степанович, все еще не веря в то, что он избранный. Единственное, во что он верил – это было облегчение боли в груди, которая его терзала шесть месяцев.
– Что, лекарства не помогли? – ехидно сказала Люба. – Ни один врач не поможет. Они все дураки.
– Но кто же может вылечить больного? – с какой-то внутренней надеждой сказала Люба.
– Только тот, кто его и создал. Наш создатель и господин, – заявила Людмила.
После ухода супругов Гордиенко, Андрей Степанович скрестил руки на груди и возвел задумчивый взгляд к потолку, изучая причудливые линии трещин.
– Черт его знает, может она и права, – сказал он после раздумий.
Люба ничего не ответила, она лишь с блаженным взглядом послушницы незаметно взяла с кровати у изголовья Библию, которую оставила Людмила, и тихонько спрятала ее в карман халата, затем, пока муж таращился на потолок, задумавшись, словно полководец перед битвой, подошла тихонько к комоду и сунула книгу между сложенных в стопку простыней.
Не прошло и часа, как удалились к себе супруги Гордиенко, и в комнату кто-то осторожно постучал.
Это был Тимофей Савович, бывший школьный учитель химии, а ныне почетный пенсионер. Он единственный из всех жильцов коммуны, кто имел и умел обращаться с компьютером, знал, что такое андроид и как пользоваться смартфоном. Все эти современные познания, без которых трудно представить нынешнего человека, он приобрел в общении с многочисленными внуками, навещавшими его. Перспективы начала двадцать первого века ему нарисовал подробно его старший внук, которому исполнилось двенадцать лет, а младший из шести сорванцов довершил описание, научив деда собирать урожай пшеницы с экрана планшета, подаренный дедом на семилетие любимого внука.
Тимофей Савович протянул Андрею Степановичу какой-то маленький овальный предмет. Умирающий с трудом нащупал его в своей руке.
– Что это, Тимоша? – спросил Андрей Степанович, глядя на вошедшего широко открытыми глазами.
Жены в комнате не было. Очевидно, пока муж дремал, пытаясь вновь увидеть продолжение вещего сна, чтобы лично услышать голос Всевышнего, она вышла к соседям.
Мутный взгляд Тимофея не рассеял вопроса, тогда он спросил еще раз.
– Что ты мне принес, Тимофей? – уже немного с раздражением поинтересовался хозяин комнаты, которому помешали заснуть.
Он поднес руку к самым глазам, все еще неясно, полусонным взглядом рассматривая мелкий овальный предмет.
– Это флешка, – сказал Тимофей.
– Флешка! – удивился Андрей Степанович. – Какую в компьютер вставляют? – догадался он.
– Да.
– Но зачем она мне?
– Это не тебе.
– А кому? – удивился Андрей Степанович, опуская утомленную дрожащую руку. Он уже хотел было вернуть ее обратно, как вдруг услышал:
– Это для Господа.
– Для кого?! – он не поверил своим ушам.
– Ну … для Бога, – неуверенно начал Тимофей Савович, разминая скрюченные, покрытые морщинами пальцы. – На ней мои … просьбы … советы, – невнятно произнес он.
– Что за советы? – все так же недоуменно спросил умирающий.
– Я подумал, что если дать это на бумаге, то будет ненадежно, ведь бумага может разорваться, сгореть, сгнить. Кроме того, он ведь там, – он показал пальцем в потолок, – и вряд ли поймет наш язык. А вот в электронном виде – другое дело. Это язык космоса. Весь мир наполнен электрическими волнами, – он на мгновение затих, – ну, в общем, я думаю, – нескладно продолжил он, – что это будет получше бумаги. В конце концов, информация не зависит от носителя.
– И что в ней? – спросил Андрей Степанович, догадываясь, о чем идет речь.
– Ну, как бы тебе сказать, – он тяжело вздохнул, стал вновь мять руки. – Ты же сам видишь, мы не живем, а существуем. Пенсии ничтожны, восемьдесят процентов уходит на коммунальные услуги, которые все больше и больше. Правительство подняло пенсию на восемь процентов, а коммунальные услуги на отопление, свет и газ на триста процентов. Где справедливость, где равенство?! – возмутился он. – А ведь мы такие же люди, как и те, что в управлении. Бог ведь сделал нас одинаковыми, равными. А сколько у нас в Украине гробов-то приходит с востока? Почему гибнут невинные дети? Почему крестьянская земля пустеет? Скоро сеять некому будет, пока эти бандиты жиреют да на джипах разъезжают.
– Ну и что? Тебе то что?
– Да я … я всю жизнь честно проработал … – он замолчал, закрыл мутные от слез глаза уродливыми старческими ладонями. Его тело содрогалось от бессилия, он не мог остановить этот поток мучительной боли, напавшей на него так внезапно.
Андрей Степанович, освободившись от флешки, положил левую руку на голову, склонившегося на табуретке и все еще содрогающегося друга.
– Я передам, – сказал он, поглаживая старого друга.
Спустя некоторое время, когда неожиданный приступ прекратился и Тимофей Савович поднял голову, Андрей Степанович сказал:
– Я обязательно передам ее, если он возьмет.
– Возьмет, обязательно возьмет. Я, конечно, понимаю, что он наш создатель и ему не просто было сотворить нашу Землю и людей, но … если он будет так любезен и прочтет те малые мысли, которые я выразил в своем обращении к нему, то может, все поменяется.
– Обязательно, – утешительно сказал Андрей Степанович.
– Я не для себя, я же понимаю, что стар. Мне это уже ни к чему. За всю свою жизнь школьным учителем, я так и не смог купить дом, машину. Ты не поверишь, я ни разу не водил машину.
– Но ведь права мы вместе получали, – возразил Андрей Степанович.
– Да, но машину я так и не смог купить. Когда умерла жена, все наши скудные сбережения ушли на ее похороны, а теперь и мечтать нечего. Цены взлетели до облаков.
– Это верно, для нас купить машину или самолет – одно и то же, невозможно. Но зачем тебе об этом думать?
– Это не для себя. Я смотрю на своих внуков, которые навещают меня, растут и цветут, как цветы. Но не пройдет и двадцати лет, как они станут взрослыми. Я не могу им ничем помочь, понимаешь?
– Ну и что, у них есть родители.
– Да, есть, – как-то грустно сказал Тимофей Савович. – Но они уже повторяют мою судьбу. Мои дети … Они повторяют меня … – Андрей Степанович почувствовал, что его старый друг вновь начнет плакать. – Я это вижу, они все бедные. Их дети … Они такие славные, юные, их улыбки лучезарны, а глаза такие чистые, как лесные родники – свежие и наивные. Что их ждет? Бедность, упреки, ссоры, тяжесть, невыносимость и боль. Нет справедливости на Земле. Кто понаглее, кто жестокий … тот подминает слабых, а они у меня не из воинов, честные и простые, как и я сам.
– Ты что хочешь сказать, что был учителем и ни разу не брал взяток?
– Ни разу.
– Не верю.
– Это твое дело, но перед Богом я чист. Я … я всю жизнь верил, что воровать плохо, грабить – преступление, обманывать – бесчестно.
– Вот и стал стариком, – упрекнул его Андрей Степанович.
– Я не жалею себя, мне просто обидно …
– За что?
– Что мир не увидел. За всю свою жизнь я был лишь раз в Словакии. Больше я нигде не был, денег не было. Четыреста евро поездка стоит, недавно прочитал в газете, и это самая дешевая. А моя пенсия после выплаты за коммунальные услуги составляет, после пересчета по курсу, десять долларов.
– Да … – только и вымолвил Андрей Степанович. – Ты думаешь, он прислушается к твоим советам?
– Я верю в это, в справедливость. Он ведь не жесток. Был один святой, который хотел сделать нашу жизнь без мук, но его застрелили или отравили. Не хотят они, чтобы были счастливыми все, ведь тогда им мало счастья достанется.
Он ушел, пожав на прощание руку Андрея Степановича. Когда тот рассказал об этом визите жене, она сказала с какой-то грустной улыбкой:
– А мы ведь тоже нигде не были. Может, хоть на том свете увидим мир. Людмила сказала, что смерть для тебя будет легкой, ты ничего не почувствуешь, потому что этого хочет Он.
2.
В полдесятого, когда в коридоре затихла суета соседей, в дверь постучали три раза. Андрей Степанович, хоть и находился в кровати, пытаясь войти в контакт с Господом, читая Библию, принесенную Надеждой Абрамовной, все же узнал знакомый сигнал.
– Это Борис. Пришел проведать друга в последний час, – сказал он жене.
Люба впустила соседа, а сама пошла на кухню, сказав, что у нее там есть дела, на самом деле она хотела оставить друзей одних, чтобы они могли поговорить наедине.
– Что, помирать собрался? – все еще не веря в слухи, сказал Борис Петрович.
– Да, вот, как видишь, – он указал на Библию, лежащую слева от подушки. – Принесли Библию, советы для Бога, – он указал на маленькую флешку, лежащую справа от подушки. – Ты что принес, старый друг?
– Надежду на скорое выздоровление.
На утомленном и бледном лице Андрея Степановича заиграла тень улыбки.
– Ну, если чувство юмора есть, значит и помирать нечего, – сказал Борис. – Ты как себя чувствуешь? Боль отпустила? – и, тут же, вдогонку вопросам ответил, – вижу, что легче.
– Говорят, что это божья сила.
– Ерунда! Бог давно уже забыл о нас. Вселенная ведь бесконечна. Сотворил людей, землю, а потом забыл, где и что сделал, ведь у нас миг жизни, а у него вечность. Так мы затерянные и плаваем тут, на этом камне, еще мокром от его слез. А флешку кто принес? Дай-ка угадаю. Тимофей?
– Он самый, жалуется в ней на тяжесть жизни и несправедливость судьбы, – сказал Андрей Степанович.
– Хм. Хочет справедливости?
– Он не хочет быть бедным.
– Если все будут богатые, то кто же тогда работать будет, кто землю пахать станет? Богатые ведь не привыкли землю буравить, им бы потреблять, да и то скукотища. Нет, Андрюша, все продумано до мельчайших деталей, как в шахматах: логично и разумно.
– Как в шахматах? А как же быть с болью?
– Боль испытывает лишь наше тело, оболочка. Душа же не материальна. С гибелью тела и память, хранящая боль, угаснет. Воспоминаний не останется.
– А как же душа?
– А вот душа настрадается, это ее главное и единственное свойство – страдание, – после минутной паузы, в процессе которой каждый думал о своем, он сказал: – а не сыграть ли нам партию, напоследок.
– И то верно, последнюю, – согласился Андрей Степанович.
– Где они?
– Там, на подоконнике, за занавеской.
Борис Петрович взял доску, подошел к кровати.
– Ну, двигайся.
– Зачем, мне и так удобно.
– Хочу лечь с тобой рядом. Вместе жили, вместе играли, может, и умрем вместе.
Андрей Степанович посмотрел на друга взглядом, который появляется между друзьями, когда они понимают друг друга без лишних слов.
Он пододвинулся, а Борис лег рядом, раскрыл доску, высыпав фигуры, и установил ее одной стороной на своей груди, а другой – на груди Андрея. Расставив шахматные фигуры, они стали играть, не раз ловя себя на мысли, что эту партию они уже когда-то играли.
Обменявшись пешками, а потом слоном на коня, Борис Петрович сказал:
– Расскажи о нашей жизни ему.
Рука Андрея Степановича зависла над шахматной доской, а взгляд пары туманных глаз невольно покосился в сторону Бориса.
– И ты туда же.
– Что поделаешь, я ведь тоже человек. Жить на земле и не страдать – невозможно. А мне так это надоело, мочи нет.
В этот момент тихонько открылась дверь и вошла Люба. Этим партия и кончилась. Налетев, как птица, защищавшая свое гнездо, она прогнала Бориса Петровича, но интересную шахматную позицию друзьям все же удалось сохранить, хоть доска с расставленными на ней фигурами тихо и плавно переместилась на секретер. Друзья расстались, как джентльмены: отдав должное сильной позиции противника, но в мыслях сохранили преимущество комбинации за собой, в надежде разгромить соперника завтра.
Но завтра этому матчу не суждено было завершиться, так как ночью Андрею Степановичу стало тесно в груди, потом появился жар и нестерпимая боль. Когда перепуганные и полусонные соседи вызвали скорую, больной уже ничего не чувствовал. Так, в беспамятстве, его тело унесли на носилках. Все пять дней, в течение которых лучшие врачи Еврейской больницы Одессы боролись со смертью, все жильцы коммунальной квартиры, где проживало восемь соседей в шести раздельных комнатах, думали о счастливом Андрее Степановиче, фантазируя его встречу с Богом и каждый представлял, как о нем рассказывал избранник Бога, перечисляя все его хорошие стороны, вспоминая все земные муки души.
«Клиническая смерть?» – так сказал молодой доктор, привезший на машине скорой помощи возвратившегося с того света Андрея Степановича.
– Теперь ему нужен покой, – сказал он на прощание.
В комнате столпились все. Пришла даже Арина Семеновна, не выдержав своего годичного заточения. Выйдя из своей скромной кельи, она, глядя на Людмилу, державшую на груди Библию, твердо заявила:
– Следующей буду я! Он мне приснился этой ночью.
Никто не придал ее словам значения, ведь все взгляды и мысли были направлены в сторону Андрея Степановича, лежащего на своей кровати. Еще более бледное, чем до больницы, лицо Андрея Степановича ничего не выражало, оно было схоже с лицом Девы Марии с поднятыми глазами. Он смотрел на все, что его окружало сразу.
Казалось, что взгляд этого святого человека, побывавшего в замке Бога, объединял всё сущее. Его глаза искрились просветлением. Они были широко раскрыты и все еще хранили в себе частичку загробного мира.
– Ну что? Что молчишь? – первым, не выдержав, нарушил гробовую тишину Борис Петрович.
– Как там? – спросила Людмила. – Ты говорил с ним?
– Ты передал ему мои советы? – тихо, с глубокой надеждой, спросил Тимофей Савович.
Молчала лишь Люба, она сидела на табуретке у изножья кровати, склонив голову и молча глотая слезы, медленно скатывающиеся по ее разрыхленному морщинами лицу.
– Нет, – наконец издал Андрей Степанович.
– Нет! – удивились в один голос супруги Гордиенко.
– Что нет? – спросила Арина Семеновна, дотронувшись двумя пальцами до Библии, которую Людмила прижимала к груди все сильнее.
– Не тяни, Андрей! – не выдержал Борис Петрович, уставившись совиными глазами на просветленного друга.
Какая-то едва заметная зловещая улыбка проскользнула на лице Андрея Степановича, но этого было достаточно, чтобы во всех присутствующих поселился безумных страх. Людмила перекрестилась. Андрей Степанович медленно обвел всех взглядом, теперь его лицо выражало насмешливую гримасу, от которой перекрестился дрожащей рукой Федор Александрович.
– А нет там никого, – сказал божий избранник.
Его лицо приняло обычный вид – ничего не выражающий. – Нет никакого Бога. Я был там, лишь пустота. Ясно вам! – с бессильной злобой выбросил он, и вновь опустил голову, направив взгляд на потолок, где по-прежнему была очерчена картина из причудливых тонких линий трещин. Затем, словно не желая говорить, он закрыл глаза, скрестив на груди руки. Наступила гробовая тишина.
– Вот те раз! – воскликнул Борис Петрович.
– Этого не может быть! – раздраженно сказала Людмила, опуская руку с Библией и уползая прочь, захватив мужа.
– Чертовщина, – сказала Арина Степановна, перекрестившись, и убралась прочь в свою комнату, откуда спустя пять минут начали раздаваться привычные для всех стоны умирающей.
Все разошлись, разочарованные, не верящие избраннику, со своими смутными и безумными мыслями. Но это и не удивительно, ведь сегодня им открылась тайна. Люба по-прежнему сидела у изножья кровати и тихо плакала.
Лишь один Андрей Степанович был спокоен. Он вспоминал, как во время операции, где его больное, измученное, дряхлое тело было оставлено для четырех мокрых от волнения утомленных врачей, безуспешно пытавшихся вернуть жизнь, а душа поднялась над комнатой, потом взлетела над больницей, облетела город, где он за миг вспомнил всю свою жизнь: детство, юность, зрелость и неизбежную мучительную старость. Когда он поднялся выше и кадры его прошедшей жизни испарились, он ощутил себя в объятиях белой, ослепительной, воздушной перины, схожей с облаками, рассеявшимися, как легкий туман. Теперь, после непродолжительного времени, которое показалось ему вечностью, его окружали вечные предрассветные сумерки и тишина, полная, абсолютная, без мук и тревог, без мыслей, без движений. Он вспомнил! Он вспомнил это состояние покоя, в котором находился. Это было потрясающе! Теперь, пребывая в своем прежнем облике, на своей вонючей кровати, от которой несло старостью, видя все эти измученные жизнью дряхлые больные тела с уродливыми морщинами и проклиная этих четырех аматоров, резавших его тело, он понял, как ему было там хорошо, как он блаженствовал в вечном покое божественной тишины.