Александр Мелихов. «Дай нам руку в непогоду…»
Я не помню времени, когда бы я не знал Пушкина: он был всегда — как солнце, как ветер, как куры и собаки в увлекательнейшем пыльном переулке. Я всегда знал, что у Лукоморья дуб зеленый, а на неведомых дорожках следы невиданных зверей, — но мир леших и русалок казался ничуть не более странным, чем заросли картошки в огороде, где можно было провести целую вечность, следя за неведомыми дорожками жуков и лягушек. Пушкин — это было, прежде всего, ужасно интересно: поп — толоконный лоб, князь Гвидон, вылупившийся из бочки, исполинская голова, которая что было мочи навстречу князю стала дуть: «ду-уть» — «у-у» — зву-уки бу-ури — губы сами собой складываются для дутья. И я, разумеется, не обращал внимания на всякие пустяки, за которые Пушкина упрекали дельные современники: поступки персонажей как-то слабовато мотивированы. Ну и что — в жизни, которая меня окружала, я тоже не искал особой целесообразности. Главное — интересно. И страшно весело. Вернее, то страшно, то весело: ветер весело шумит, судно весело бежит…
Читать дальше 'Александр Мелихов. «Дай нам руку в непогоду…»'»










 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы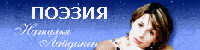 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

