Елена КУКИНА. Матронушка и другие. О книге Ирины Ордынской «Матронушка». Роман о любимой святой
 В начале 2019 года в издательстве «Рипол Классик» вышла книга Ирины Ордынской «Матронушка. Роман о любимой святой». Ирина Ордынская, автор семи книг, так или иначе касающихся темы веры, соединила в «Матронушке» романную форму и православное содержание.
В начале 2019 года в издательстве «Рипол Классик» вышла книга Ирины Ордынской «Матронушка. Роман о любимой святой». Ирина Ордынская, автор семи книг, так или иначе касающихся темы веры, соединила в «Матронушке» романную форму и православное содержание.
Интересно само намерение написать о православной святой художественный роман, сделать этот рассказ увлекательным и близким разным людям, в том числе не воцерковленным. Книга отличается от житийных произведений с их повествовательно-документальной интонацией – это классический роман с сюжетной линией и историей любви. Святая Матрона Московская становится в этой книге ключевым персонажем, именно вокруг нее развиваются все события романа.
Роман появился на неоднозначной почве – комплекс текстов о Матроне Московской был открыт воспоминаниями Зинаиды Ждановой, в которых выписан «народный» образ святой. Эти воспоминания не были одобрены церковью и только частично вошли в каноническое житие Матроны. Форма художественного романа, которую выбрала Ирина Ордынская, идеально легко уводит от опасности апокрифа и снимает напряжение, вызванное сомнением в достоверности фактов жизни и слов Матроны: в романе все они уместны и получают новую художественную правдивость. От «народности» образа Матроны в романе остается только близость ее к людям, любовь, с которой к Матушке обращаются ее паломники.
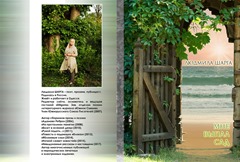
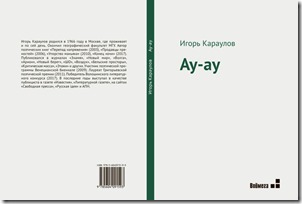
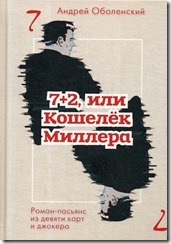
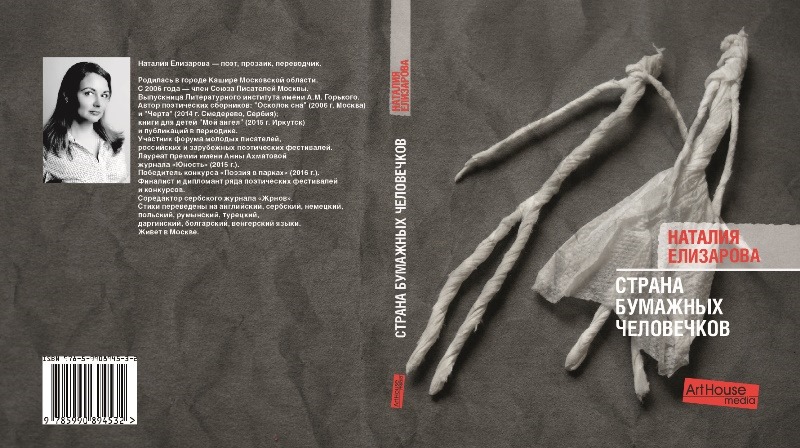
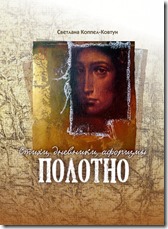
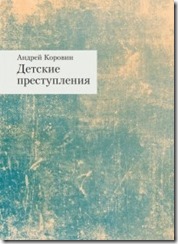
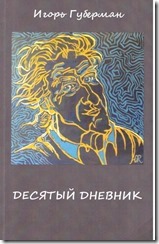
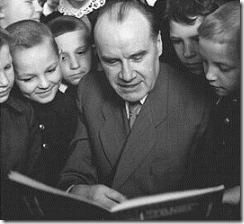
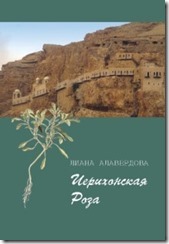
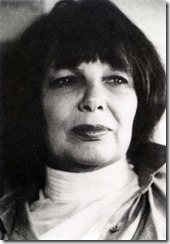
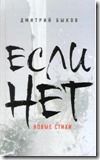

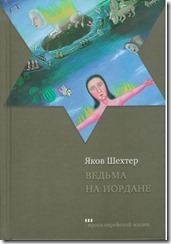
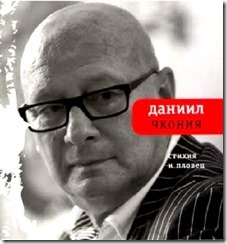
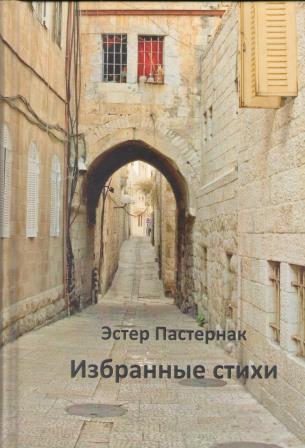 У всякого поэта есть этакое постоянное стремление к своим, именно ему присущим смыслообразующим символам-вешкам, оседло кочующим по страницам – в Интернете эту тягу называют «теги». В стихах Эстер Пастернак ключевое, крылатое слово – птицы.
У всякого поэта есть этакое постоянное стремление к своим, именно ему присущим смыслообразующим символам-вешкам, оседло кочующим по страницам – в Интернете эту тягу называют «теги». В стихах Эстер Пастернак ключевое, крылатое слово – птицы.
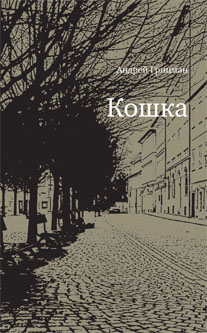 Андрей Грицман, «Кошка», («Время», – Поэтическая библиотека, Москва, 2014 г.)
Андрей Грицман, «Кошка», («Время», – Поэтическая библиотека, Москва, 2014 г.)
 Эта книга могла бы стать серьезным литературным событием, не будь ее главная тема так безмерно опошлена бесконечными дискуссиями о еврейском (или русском, в сущности) вопросе. Однако и пошлость возможно иногда победить, доведя ее до абсурда, до гротеска: книга талантливого израильского прозаика Михаила Юдсона дышит такой ненавистью к России и всему русскому (кроме, разумеется, языка, блистательное владение которым автор демонстрирует ежестранично), что в книге его сверкают порой искры подлинного вдохновения. Это уж не брюзжание — это подлинное кощунство: “Вокруг миряне, сняв шапки, истово хлебали чай, расплескивая при толчках вагона, хрустели вприкуску, говорили о том, что вчера в церкви Вынесения Всех Святых опять заплакала угнетенно чудотворная икона Василья Египтянина, а с малых губ Пресвятой Вульвы-великомученицы слетел вздох”…
Эта книга могла бы стать серьезным литературным событием, не будь ее главная тема так безмерно опошлена бесконечными дискуссиями о еврейском (или русском, в сущности) вопросе. Однако и пошлость возможно иногда победить, доведя ее до абсурда, до гротеска: книга талантливого израильского прозаика Михаила Юдсона дышит такой ненавистью к России и всему русскому (кроме, разумеется, языка, блистательное владение которым автор демонстрирует ежестранично), что в книге его сверкают порой искры подлинного вдохновения. Это уж не брюзжание — это подлинное кощунство: “Вокруг миряне, сняв шапки, истово хлебали чай, расплескивая при толчках вагона, хрустели вприкуску, говорили о том, что вчера в церкви Вынесения Всех Святых опять заплакала угнетенно чудотворная икона Василья Египтянина, а с малых губ Пресвятой Вульвы-великомученицы слетел вздох”…
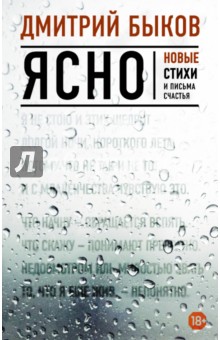 (Дмитрий Быков. Ясно. Новые стихи и письма счастья. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 284 с. ISBN 978-5-17-087962-5)
(Дмитрий Быков. Ясно. Новые стихи и письма счастья. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 284 с. ISBN 978-5-17-087962-5)
 Журнал «Кругозор»
Журнал «Кругозор» Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы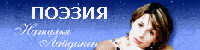 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

