
Бобякова И. В., Ларионова М. Ч. Домовой: фольклорный персонаж в литературе.
Из книги: Бобякова И. В., Ларионова М. Ч. Домовой: фольклорный персонаж в литературе. – Ростов н/Д.: Foundation, 2024. – 216 с. ISBN 978-5-4376-0233-1
Облики домашнего духа чрезвычайно разнообразны и могут совмещать в себе антропоморфные, звериные и пограничные признаки. Домовой не имеет единого обличия, даже если является в виде животного: разным людям видится разный домовой. Это, вероятно, связано с индивидуальными особенностями рассказчика и с бытующей в данной местности традицией.
1.3. МЕСТА ОБИТАНИЯ
Исходя из названия мифологического персонажа, нетрудно предположить, что места обитания домового сводятся к дому, жилищу, постройке, двору. За пределами данных локусов домашний дух если и встречается, то не живет постоянно. Внутри же дома «хозяин» обитает в определенных местах. Народным сознанием закреплено, что домовой живет в каждом без исключения доме, при этом он не обязательно обнаруживает свое присутствие. Важно заметить при этом, что, несмотря на тесную связь с домом и конкретными локусами, «это не просто дух определенного локуса, а прежде всего опекун всего хозяйства, в определенном смысле хозяин и глава всей семьи, живущей в доме» [Виноградова 2000: 271].
Наиболее часто встречающимся в мифологической прозе местом обитания домового является печь. Так, дух может жить и за печкой, и под печкой, и у печки, и на печке, и даже внутри печи [Мифологические рассказы Архангельской области 2009: 78].
М.Н. Власова уточняет, что «на печи домовой располагается в определенном направлении – вытягиваясь вдоль нее» [Власова 2008: 149]. В другом источнике читаем, что домашний дух живет «обычно в углу за печью, куда надо было бросать мусор, чтобы “домовой не перевелся”» [Иванов, Топоров 1995: 169].
Место обитания домового связано также с шестком, голбцом: «Однажды в праздник пошла я в голбец, а там кто-то уркает, уркает. Я его спрашиваю: “Кто это здесь?”. А он: “Это я, голбечный суседко”» [Правдивые рассказы… 1993: 93].
Домовой может обитать как в верхней части дома, так и в нижней. Так, нередко отмечается его присутствие на чердаке, на повети, в трубе. Живет домовой также в подполье, под порогом, в подвале, под домом, в погребе: «Домовой живет в подполье, под порогом, на чердаке, мохнатый, как леший, он дышит, зализывает волосы людям» [Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 40].
В.И. Даль и С.В. Максимов упоминают также чулан как излюбленное место домового [Даль 1996: 19; Максимов 1989: 27]. Местами, связанными с домашним духом, являются и углы дома. В частности, для того, чтобы домового задобрить, в разные углы дома бросают конфеты, сладости или монеты. Так, Н.И. Толстой пишет: «Когда приводят на двор купленную на племя скотину, домовому кладут в углы куски хлеба, чтобы он любил скотину» [Толстой 2003: 270].
Исследователь также указывает на связь красного угла с домовым, описывая следующий ритуал: крестьяне закапывали горшки, из которых обмывали покойников, в разные места, при этом горшок умершего главы семьи клали под «верхний» угол, «чтобы не переводился домовой» [Толстой 2003: 279].
Домовой может обитать и за пределами дома – в хлеву, в амбаре, в овинах, в сенях, в сенном сарае. М. Забылин, А.Н. Афанасьев и Е.Е. Левкиевская пишут также о бане – постройке, в которой может жить домашний дух [Русский народ… 1996: 242; Афанасьев 1995: II, 38; Левкиевская 1999а: 121].
Местом обитания домового служит и сенки вошли. Мишка говорит: “Кто тут?”. А “оно” не отвечает. Вот. А бабушка сказала вечером, что “хозяин” приходил» [Правдивые рассказы… 1993: 70].
Увидеть домового можно в любой без исключения день, но наиболее вероятно заметить его в праздничные дни. Особенно частотны проявления духа в праздник Троицы, в пасхальную неделю, на Рождество, в страстные вечера [Правдивые рассказы… 1993: 69; Мифологические рассказы Архангельской области 2009: 94].
В исследованиях, посвященных домовому, говорится о Пасхе, Чистом четверге, Рождестве – днях, в которые дух активно себя проявляет. Н.А. Криничная также утверждает, что «домовой появляется на Новый год или под Крещение» [Криничная 2001: 195].
У А.Н. Афанасьева и И.П. Сахарова читаем, что 28 января в полночь домашний дух выходит из-под печи и ужинает, а 30 марта он бесится, злится, тоскует [Сказания русского народа… 2000: 222–240; Афанасьев 1995: II, 55].
Е.Е. Левкиевская пишет о том, что дух-«хозяин» проявляет себя в ночь на Егория, на Ивана Купалу и в поминальные дни [Левкиевская 1999а: 122]. В. Шуклин отмечает, что 25 января «существовал обычай “угощать” домового» [Шуклин 1997: 217].
Домового не всегда можно заметить невзначай. Иногда для того, чтобы взглянуть на домашнего духа, необходимо произвести специальные действия, соблюсти обряд: «Отец рассказывал. Возьмите, говорит, чистую расческу, налейте ведро воды, бросьте эту расческу в ведро. Через три дня будет волос от домового. Ну, че, мы посмотрели через три дня: там волос, правильно, седой, белый волос… А этот волос, говорят, потрешь на руках, свет-то вытушится, потушится. А потрешь волос-то, он появится, сам домовой» [Правдивые рассказы… 1993: 103–104].
Различные способы увидеть духа-«хозяина» предлагают в своих исследованиях В.И. Даль, С.В. Максимов, М.Н. Власова. Наиболее простой из них – «посмотрев в печку или опустившись на третью ступень лестницы, ведущей во двор, и глянув промеж ног» [Власова 2008: 154].конюшня [Власова 2008: 140; Левкиевская 1999а: 121; Левкиевская 2000: 282; Рябов 2024: 103]. В этих же исследованиях говорится о том, что домашний дух может жить во дворе возле еловой или сосновой ветви с очень густой хвоей, специально подвешиваемой для него [Власова 2008: 141; Левкиевская 1999а: 121; Левкиевская 2000: 282].
Т.А. Новичкова приводит следующие сведения: «Некоторые считают, что жить на чердаке он стал лишь в последнее время, а раньше жил в избе, лежал на лавке-казенке, пристраиваемой вдоль печи специально для домового, до сих пор казенка – нечистое место, на нее не кладут ни хлеба, ни креста» [Новичкова 1995: 136].
Как мы видим, домовой может обитать в различных локусах, не теряя при этом контроль над всей территорией, находящейся в его поле внимания. Для нас особенно важно наблюдение Н.А. Криничной: «… домашний дух оказывается в известном смысле вездесущим, как бы наполняя и ограждая собой находящееся под его покровительством жилое пространство» [Криничная 2001: 183].
1.4. ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ
Домовой, являясь устойчивым персонажем народной демонологии, чаще всего появляется ночью. Ночь в мифологическом представлении – переходное время, в которое представители потустороннего мира посещают этот мир. Именно поэтому домового так часто видят ночью или сразу после наступления темноты: «Вот я раз ноцью выйтить хотела, встала смотрю месяц светит, а на лавки у окоска доможириха сидит и все прядет, так и слышно нитка идет: “дзи” да “дзи”, и меня видала, да не ушла» [Сказки и предания Северного края 2009: 210]. Э.В. Померанцева уточняет, что «домового можно увидеть невзначай, чаще всего ночью, подле скотины или лошадей» [Померанцева 1975: 101].
Но переходным временем в народном сознании является также полдень, поэтому увидеть домашнего духа можно и днем: «Я когда маленькая была, один раз мы с братом дома были. Слышим, как будто мыши скребутся. Вот. Вышли мы в сенки – там никого. Потом слышим, опять “оно” ведро кидает. Мы опять в сенки вошли. Мишка говорит: “Кто тут?”. А “оно” не отвечает. Вот. А бабушка сказала вечером, что “хозяин” приходил» [Правдивые рассказы… 1993: 70].
Увидеть домового можно в любой без исключения день, но наиболее вероятно заметить его в праздничные дни. Особенно частотны проявления духа в праздник Троицы, в пасхальную неделю, на Рождество, в страстные вечера [Правдивые рассказы… 1993: 69; Мифологические рассказы Архангельской области 2009: 94].
В исследованиях, посвященных домовому, говорится о Пасхе, Чистом четверге, Рождестве – днях, в которые дух активно себя проявляет. Н.А. Криничная также утверждает, что «домовой появляется на Новый год или под Крещение» [Криничная 2001: 195].
У А.Н. Афанасьева и И.П. Сахарова читаем, что 28 января в полночь домашний дух выходит из-под печи и ужинает, а 30 марта он бесится, злится, тоскует [Сказания русского народа… 2000: 222–240; Афанасьев 1995: II, 55].
Е.Е. Левкиевская пишет о том, что дух-«хозяин» проявляет себя в ночь на Егория, на Ивана Купалу и в поминальные дни [Левкиевская 1999а: 122]. В. Шуклин отмечает, что 25 января «существовал обычай “угощать” домового» [Шуклин 1997: 217].
Домового не всегда можно заметить невзначай. Иногда для того, чтобы взглянуть на домашнего духа, необходимо произвести специальные действия, соблюсти обряд: «Отец рассказывал. Возьмите, говорит, чистую расческу, налейте ведро воды, бросьте эту расческу в ведро. Через три дня будет волос от домового. Ну, че, мы посмотрели через три дня: там волос, правильно, седой, белый волос… А этот волос, говорят, потрешь на руках, свет-то вытушится, потушится. А потрешь волос-то, он появится, сам домовой» [Правдивые рассказы… 1993: 103–104].
Различные способы увидеть духа-«хозяина» предлагают в своих исследованиях В.И. Даль, С.В. Максимов, М.Н. Власова. Наиболее простой из них – «посмотрев в печку или опустившись на третью ступень лестницы, ведущей во двор, и глянув промеж ног» [Власова 2008: 154].
Таким образом, согласно быличкам, увидеть «хозяина» при желании несложно. Важно помнить, что заметить домового нежелательно, так как его появление сулит беды, несчастья, может послужить причиной болезни или даже смерти. Как гласит пословица из сборника В.И. Даля: «Увидать домового – к беде, к смерти» [Пословицы… 1957: 926].
1.5. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
Мифологическая проза представляет нам многочисленные рассказы, повествующие о тех или иных формах проявления домашнего духа.
1. Явные формы проявления
Самым недвусмысленным и однозначным проявлением домового можно считать его непосредственное явление членам семьи, когда люди видят некий дух и либо называют его домовым, либо говорят, что видением мог быть «хозяин». Но кроме таких случаев, былички знакомят нас с большим количеством примеров неявного проявления домового, которое в отдельных случаях можно рационально объяснить, но мифологическое сознание настаивает на мистической природе, объясняя такие проявления деятельностью духа-«хозяина». Рассмотрим более подробно такие случаи, систематизировав их.
2. Неявные формы проявления
а) Звуки
Чаще всего домашний дух напоминает о своем присутствии всяческими звуковыми сигналами. Как правило, ночью люди слышат какие-то звуки (стоны, свист, плач, стуки и т.д.), а иногда даже чей-то голос, и приписывают это действиям домового. Так, одна из быличек рассказывает: «“Бабушка, правда, мы слышим, у нас на дворе кто-то стонае”. – “Это хозяин. Он ходить. Он на вас обижается”» [Правдивые рассказы… 1993: 20].
Другая повествует о том, как домовой плачет. Плачет и стонет домовой обычно, если его обидели члены семьи или если он переживает, предчувствуя беду. Так проявляются в персонаже качества, характерные для человека. Иногда люди слышат, как дух ходит и стучит по воротам, что, как правило, предвещает будущее замужество. Но довольно часто домовой ходит по дому без причины, при этом бывает слышен стук сапог. Наиболее распространенным звуком, сопровождающим появление духа, является стук: «Я вот лежу дома, и ночью в доме стук. И вот именно вот тут вот стук. Я испугалась, встала, мужа разбудила. И говорят: “Тебя ведь и домовой-то дома не любит”» [Мифологические рассказы Архангельской области 2009: 83].
Интересно, что стук домового обычно предвещает какое-то несчастье. Но иногда он может быть предвестием переезда, словно так дух выживает семью из дома. Домовой может напоминать о себе и шумом, возникающим от драки с соседним духом [Правдивые рассказы… 1993: 20]. Нередко «хозяин» разговаривает с членами семьи, произносит слова, шепчет, ворчит, хохочет и даже кричит [Вятский фольклор 1996: 18; Переславское Залесье 2012: 275].
Таким образом, звуковые знаки, сопровождающие появление домового, разнообразны и многочисленны, но всегда приписываются народным сознанием действиям духа-«хозяина». В исследовательской литературе эта форма проявления домового хорошо изучена. Во всех работах, посвященных домашнему духу, подробно освещается вопрос, связанный со звуками, которые «хозяин» издает. Книга В.И. Даля «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа» не является исключением. К уже сказанному нами можно добавить наблюдения ученого о том, что часто домовой бранится «чисто по-русски, без зазрения совести; голос его грубый, суровый и глухой, как будто раздается вдруг с разных сторон» [Даль 1996: 18].
Т.А. Новичкова упоминает о том, что если домашний дух говорит, то его речь похожа «на шелест листьев или завывания ветра» [Новичкова 1995: 133].
С.М. Толстая замечает, что «треск в доме или скрип половиц ночью – это “речь” домового, сообщающего о своем присутствии» [Толстая 1999а: 11].
Л.Н. Виноградова обобщает представления восточных славян о звуках, раздающихся в доме: «Практически все виды ночных шумов в доме обычно приписываются домовому». Все шумы домашнего духа, по словам исследователя, так или иначе адресованы человеку [Виноградова 1999: 181].
Нередко узнать о присутствии домового помогают различные косвенные признаки: ветер, особый запах, свист, поведение животных. Интересна в этом отношении следующая быличка: «И вот появился свист! Вот как, говорит, засвистело, да так вот кругом просвистело – да ко мне! Ко мне, да на меня, говорит, – хы! – как дохнет! Но, такой запах – просто невозможный! Вот, гыт, невозможный запах. Это же нужно – вот так встретить!» [Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири 1987: 65].
Часто при появлении домового лает собака или мяукает кошка, останавливаются часы, ночью появляется запах табака, хотя никто в доме не курит. Иногда беспричинно меняется настроение человека: он грустит и тоскует. Так читаем: «Вот, у меня домовой был. А что за домовой, его никто никогда не видал. И вот он нагонял на людей тоску» [Мифологические рассказы Архангельской области 2009: 82].
б) Тактильный контакт
Нередко домашний дух дотрагивается до человека, прикасается к нему, вступает в физический контакт. Наиболее частотными являются случаи, когда «хозяин» наваливается на человека и давит его: «Меня домовой-то раз выдавил. Он вот так навалится, и ты не можешь дохнуть, не можешь пальцем пошевелить» [Мифологические рассказы и легенды Русского Севера 1996: 42].
При этом в быличках не всегда есть указания на то, что домовой душит, предсказывая что-либо. Иногда он наваливается на человека без причины. Домашний дух может накрывать человека одеялом ночью, а может, напротив, сбрасывать его. Есть свидетельства и о том, как домовик стягивает человека за ноги с кровати [Правдивые рассказы… 1993: 76].
Чаще всего «хозяин» прикасается к человеку, предсказывая таким образом будущее: теплая мохнатая рука – к добру, холодная голая – к худу. Одной из самых загадочных и интересных форм проявления домового является плетение им косичек, как правило, юной девушке, но он может плести косы и мужчинам на бороде. Заплетенные косы не принято обрезать: в противном случае это может повлечь за собой болезнь человека или даже смерть: «Жила у нас старая девка, незамужняя, звали ее Ольгой. Ну, все и ходил к ней дворовушка спать по ночам и всякий раз заплетал ей косу и наказывал: “Если ты будешь ее расплетать да чесать, то я тебя задавлю” Только выдумала она выйти замуж. Начали расплетать косу и долго не могли ее расчесать: так-то круто закрепил ее дворовушко. На другое утро надо было венчаться – пришли к невесте, а она в постели лежит мертвая и вся черная: дворовушко-то ее и задавил» [Правдивые рассказы… 1993: 42].
Домовой оставляет синяки на теле спящего: «У меня здесь синяки, а это домовой, но никто его не видел» [Фольклор Сосновского района… 2012: 227]. В.И. Даль, А.Н. Афанасьев и С.В. Максимов пишут, что домовой оставляет на теле человека ночью синяки, которые, однако, не болят [Даль 1996: 16; Максимов 1989: 30; Афанасьев 1995: II, 52]. М. Забылин добавляет, что по синякам «судят о какой-нибудь неприятности, особенно если синяк болит» [Русский народ… 1996: 242].
В других источниках читаем, что домовой зализывает спящему человеку волосы, завивает ему колтун на голове [Никитина 2006: 22; Левкиевская 1999а: 122].
в) Озорство
Некоторые былички повествуют о том, как домовой совершает какие-то действия, проявляя себя. Так, например, он может кидаться кирпичами, камнями, ведрами, бросать лапоть на стол, бить посуду, перекладывать вещи с места на место: «Вот ночью он озорничат: например, если плохо ему, не угодишь, то вещи раскидывает какие-то, то еще что-то, посуда не на месте» [Фольклор Ковернинского района… 2013: 156]. Иногда он зажигает свет ночью, когда все спят, переставляет стулья, ест оставленную на столе еду, ворует ложки, женщина-домовой прядет, сеет муку. 1.6. ФУНКЦИИ ДОМОВОГО Домовой – домашний дух, и с этим связаны основные его функции. В первую очередь, он выступает в мифологической прозе в качестве хозяина и покровителя дома, семьи, домашних животных.
I. ФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИЛИЩЕМ
- Позитивные (апотропейные) функции
а) Охраняет жилище Наиболее распространены рассказы о том, как домовой стережет дом в отсутствии или присутствии хозяев, содержит избу в порядке. Об этой функции домового пишут все без исключения исследователи духа. Е.Е. Левкиевская сообщает, что в разных областях роль опекуна дома может приписываться и какому-либо животному. Обращаясь непосредственно к функциям, которые выполняет домашний дух, исследователь отмечает, что домовой осматривает хозяйство по ночам и сторожит дом от воров [Левкиевская 2000: 283]. Встречаются и указания на то, как «хозяин» обходит ночью свои владения: «Рассказывают, что домовой не любит по ночам оставаться впотьмах, высекает для себя огонь с помощью кремня и огнива и с зажженными восковыми свечами обходит дозором хлева и конюшни» [Афанасьев 1995: II, 39]. Наиболее интересны слу чаи, когда домовик помогает семье, предупреждая о несчастье: «Спит, слышит: “Хозяин, у тебя зимовье-то горит!” Проснулся: вот беда! Все огнем занялось! “Дедушка-домовой, помог бы мне тушить-то”. И сразу дело лучше пошло, затушил скоро, ничего как-то не погорело» [Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири 1987: 79–80].
б) Оберегает человека, попросившего ночлег Дух-«хозяин» особенно сильно связан с домом как таковым, поэтому его встречают даже там, где люди постоянно не живут. Особенно часто он дает о себе знать в зимовьях, но также является и в заброшенных или оставленных домах. При этом главное, что необходимо сделать человеку, захотевшему переночевать или прожить какое-то время в подобном жилище, – это попросить у домового приюта [Никитина 2006: 31]. Тогда «хозяин» будет всячески оберегать гостя и не позволит нечистой силе причинить человеку вред. Так, рассказывают: «Прихожу, гыт, остановился переночевать в этом зимовье. Но прежде всего попросился, что, хозяин, пусти меня ночевать! Подул ветер, зашумело, все и – залетает … “Ага, у тебя человек! Давить будем!” А этот говорит: “Нет, не будешь. Он у меня выпросился” – это хозяин-то, домовой» [Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири 1987: 77–78].
- Негативные функции
а) Выгоняет человека, не попросившего о ночлеге Если человек не подумал о «хозяине», не попросил у него ночлег, то домовой может напугать, выгнать из дома. При этом рассказы об этом сводятся часто к одному сюжету: человек решает провести ночь в зимовье или заброшенном доме, забывает попросить духа переночевать, ложится спать, затем либо слышит какие-то стуки, шорохи, шаги, либо чей-то голос, либо видит страшное существо, пугается и уходит из дома.
Так дух постройки выгоняет незваного и непрошеного гостя из своих владений. К примеру, быличка повествует: «Мужик ехал домой откуль-то. И стояла избушка в лесу. Лег ночью-то, вдруг мужчина пришел и говорит: “Вы почему не попросились?”. Ну и такую страсть ему придал – он ведь убежал» [Правдивые рассказы… 1993: 85].
II. ФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЮДЬМИ
- Позитивные (апотропейные) функции
По словам исследователей, домашний дух охраняет семейное благополучие, заботится о хозяйском имуществе, радеет о благополучии семьи. Домовой мешает тайным грехам супругов [Максимов 1989: 30]. Он может выполнять мужские обязанности, навещая тоскующую вдову или молодую жену, чей муж находится в отлучке [Никитина 2006: 22]. Многими исследователями отмечается, что домовой следит за отношениями в семье, не допускает ссор и размолвок, наказывая провинившуюся сторону [Левкиевская 2000: 283]. Нередко встречаются и указания на то, что дух-«хозяин» стережет дом и двор от деятельности нечистой силы [Сказания русского народа 2000: 240; Афанасьев 1995: II, 39]. По словам Н.А. Криничной, именно домовому принадлежит решающая роль в выборе невесты для жениха. Как отмечает исследователь, домашний дух опекает и растит девочку до ее совершеннолетия и оставляет ее только после свадьбы. Поэтому в обряде сватовства много внимания уделяется печи и ее атрибутам [Криничная 2001: 203]. Опишем далее типичные позитивные функции духа.
а) Присматривает за ребенком
Домовой заботится о людях с малого их возраста. Так, широко известны случаи, когда домовой присматривает за ребенком, убаюкивает его, качает зыбку с младенцем: «Однажды заходят в дом смотрят: кто-то маленький, с метр всего, мохнатый, мальчика на руках держит. Их заметил, Колю-то положил аккуратно, а сам в печку юркнул. Потом видели, как домовой мух отгонял от кроватки и кошку не пускал» [Правдивые рассказы… 1993: 38–39].
Н.А. Криничная в своем исследовании сообщает, что домовой причастен к рождению каждого нового члена семьи. По мифологическим поверьям, между домовым и женщиной, ждущей или родившей ребенка, существует некая таинственная связь. Так, дух заботится о беременной женщине, не оставляет без внимания и роженицу с появившимся на свет младенцем. С этим связаны обычаи, согласно которым только что появившегося на свет младенца полагалось подержать какое-то время над огнем или обойти с ним на руках вокруг домашнего очага. Кроме того, домовой присматривает за младенцами и маленькими детьми, особенно когда они одни дома [Криничная 2001: 197–200].
б) Помогает по хозяйству
Будучи хранителем дома, «хозяин» нередко помогает его жильцам по хозяйству: выполняет домашнюю работу, возит воду. Так, он может прибраться в доме: «Мать моя частенько тоже поговаривала, мол, уйдет куда-то, вернется – а в избе-то уже все прибрано» [Правдивые рассказы… 1993: 32]. В женском облике домовой помогает хозяйкам дома, прядет или сеет муку: «Зимой темно, вижу: идет из-под голбца маленькая бабка в сарафане и рубахе, в платочке. Подходит, берет прялку и начинает прясть, потом положила и пошла. Я поползла за ней на четвереньках, она ушла в голбец» [Правдивые рассказы… 1993: 40].
Помощь домового по дому – это всегда хороший знак: «И вот вижу во сне: баба, толстая такая сеет муку и на меня смотрит. На работе Таня сказала, что это к хорошему, когда тебе суседиха муку сеет, значит, в хозяйстве помогать будет. И правда, в новом доме стали лучше жить» [Правдивые рассказы… 1993: 41].
О помощи домового по хозяйству сообщается во всех исследованиях, ему посвященных. С.В. Максимов добавляет, что домашний дух может помогать и в полевых работах [Максимов 1989: 30]. Дух-«хозяин» способствует плодородию полей, обилию жатвы, присвоив себе функции полевого духа [Криничная 2001: 247].
в) Помогает в случае беды
К некоторым семьям домовой настолько привязан, что помогает им в опасных ситуациях, может даже отвести напасть или вовремя предупредить о будущем несчастье. Нередко домашний дух спасает жизнь людям: «Как-то раз полезла я в голбец, да сорвалась. Руками успела ухватиться, их крышкой придавило, вот-вот упаду. Молиться стала. Тут вдруг крышка немного поднялась, и снизу мне в ноги сила как даст, что я так и вылетела. Вот, я думаю, домовой мне помог» [Правдивые рассказы… 1993: 38]. Но непосредственно, как описывает приведенная быличка, домовик редко помогает, чаще он спасает словом [Правдивые рассказы… 1993: 37]. Интересно, что домовой как добрый дух, помогающий человеку, противопоставляется черту – нечистой силе, причиняющей вред людям. Е.Е. Левкиевская также пишет о том, что домовой часто будит хозяев вовремя, помогая тем самым предотвратить пожар в доме [Левкиевская 2000: 288].
г) Предсказывает будущее Не менее важной функцией домового является предсказывание будущего. Существует множество быличек, которые повествуют о том, как «хозяин» предупреждает людей о будущих несчастьях или радостях. Само появление домового и возможность человека увидеть его нередко расценивается как дурное предзнаменование, чаще как предвестие смерти жителя дома. Очень часто домашний дух душит человека, во время чего, согласно поверьям, необходимо спрашивать: «К худу или добру?». Если домовой отвечает «к худу» или продолжает давить сильнее, значит быть беде, если говорит «к добру» или прекращает душить – быть радости.
Но встречаются и вариации этого сюжета. Так, услышав какой-то шум, люди вопрошают: «К худу или к добру?», на что слышат какой-то из ответов. При этом ответы не всегда отчетливые, могут быть громкие звуки вздохов, а иногда и вовсе посторонний звук. Предупреждая о радости или несчастье, домовой часто разговаривает с людьми. Сюжет одной былички построен на разговоре людей и домового: женщины задают духу вопросы, домовой на них отвечает. В.И. Даль отмечает, что домовой будит или толкает ночью, желая предупредить хозяина о чем-либо. Разговаривает же домовой редко, чаще предсказывает будущее своими действиями: «Он гладит мохнатой рукой к богатству, теплой к добру вообще, холодной или шершавой, как щетка, к худу» [Даль 1996: 16]. Часто люди чувствуют, как домашний дух щиплется, и спрашивают: «К добру или к худу?».
На это, по словам ученого, домовик плачет или смеется, выбранит или скажет ласковое слово. Перед смертью хозяина домовой надевает его шапку либо садится на его место и выполняет его работу [Даль 1996: 19].
В редких случаях домовой может отправиться в другую страну, чтобы предупредить хозяина о будущем неблагополучии [Власова 2008: 153].
По словам Н.А. Криничной, явление домового считается предвестием смерти. Особенно значимо явление домашнего духа в виде двойника какого-либо из жильцов дома. Кроме того, перед смертью человека в доме трещат углы или воет домовой. Часто домовой душит по ночам, предсказывая будущее, при этом в качестве духа может выступать и кикимора, и даже тень домового, или постень, то есть душа.
Исследователь поясняет, ссылаясь на Э. Тэйлора, что «в верованиях так называемых первобытных народов тень и душа отождествляются». Иногда домовой, как отмечает Н.А. Криничная, непосредственно предрекает судьбу, но чаще предсказание выражено в символической форме. Знаки судьбы, посылаемые домашним духом, могут передаваться разными способами. Некоторые воспринимаются посредством осязания, например, щиплет дух-«хозяин» к беде.
Предсказания могут быть представлены в звуковой форме: стук, грохот, треск. Шелест веника, например, предвещает скорое переселение, а треск в заднем углу означает, что из дому кто-то выживается. Н.А. Криничная отмечает, что распространены приметы, связанные с огнем как эмблемой домового. Так, если огонь горит весело, это хороший знак. Если из печи выскакивают горящие угли, то это предвещает прибытие гостя. Н.А. Криничная также сообщает о том, что во время святочных гаданий будущее предсказывает именно домовой и его атрибуты (огонь, угли, сажа, кочерга, ухват, сковорода и т.д.) [Криничная 2001: 212–244].
С.В. Максимов пишет о некоторых приметах, связанных с домовым и предсказанием им будущего. Так, если у трубы на крыше заиграет домовой в заслонку, то будет суд; если обмочит домовой ночью, то этот человек заболеет; если дух дергает за волосы, то жена должна остерегаться мужа; если «хозяин» гремит посудой, то нужно осторожнее обращаться с огнем; если домовой скачет, играет песни и смеется, то быть свадьбе [Максимов 1989: 29].
- Негативные функции
Домовой заботится только о тех семьях, которые любит, которые уважительно к нему относятся и не ссорятся друг с другом. Неугодных ему людей домашний дух может долгое время выживать из дома, пугая и причиняя всякий вред, пока жители не решатся переехать и оставить дом. Достаточно распространены сюжеты, как отмечает Н.А. Криничная, согласно которым домовой похищает ребенка, причем похищение и смерть в мифологических рассказах эквивалентны. Также домовой может подменить похищенного ребенка чуркой или поленом, обрубком дерева, голиком. Мифологические поверья указывают на то, что во власти домового не только дать людям ребенка, но и отнять его. Домовой может наслать на человека болезнь [Криничная 2001: 201, 210–211].
По словам А.В. Никитиной, разгневанный домовой может покинуть дом и двор, что приводит к гибели всей живности и к развалу хозяйства. [Никитина 2006: 28].
В другом источнике замечено, что «ленивых и беспутных хозяев, которые не оказывают ему почтения, домовой не любит и может довести до разорения» [Волошина, Астапов 1996: 191]. Домовой может шалить, вредить в избе, беспричинно выживать хозяев из дома, красть детей и приносить болезни. Домовой, по словам исследователя, невидимо расхаживает по избе, и человек, попавший на его дорогу, может тяжело заболеть или даже умереть [Власова 2008: 150–151; Криничная 2001: 201, 211].
Сожжением избы он «мстит … свои обиды и по великорусскому и литовскому поверьям» [Афанасьев 1995: II, 39]. Нередко «домовые разных дворов вступают между собой в ожесточенную борьбу». Если чужой домовой при этом одерживает победу, то он начинает всячески вредить жильцам дома: «сбрасывает хозяина с саней или телеги, раздевает его во время ночи» и «мешает всякому делу, всякой работе» [Афанасьев 1995: II, 51].
а) Выгоняет из дома Выгоняя из дома, дух может душить человека ночью: «Вдруг старик лохматый из-за печки выходит… подходит ко мне и давай душить. Я наутро рассказал поварихе, она мне говорит: “Э-э, солдатик, ты здесь не задержишься. Это тебя домовой невзлюбил”. И точно – вечером меня отправили в другое место» [Легенды… 1989: 210]. Может домовой и вовсе стаскивать с кровати, проявлять свое неудовольствие стуком, в иных случаях домашний дух прямо говорит жителям дома, что им необходимо покинуть жилище.
б) Наказывает Народное сознание наделяет домового и функцией наказывать обитателей дома за различные проступки. Так, одна быличка повествует о том, как хозяйка уехала и оставила домового, за что он душил ее по ночам. В другой рассказывается о том, как жители не убрали мусор, после чего домовик пугал их ночью. Наказывает домашний дух и за жестокое отношение к животным: «Баба была у нас шибко вредная и скотину обижала. Корова у нее добрая была. Вот поставила она корову в хлев-то да и спать легла. Видится ей во сне, что мужик сидит подле коровы и доит ее. Утром встала, пошла к скотине, доить стала, а молока-то и нет! То, видно, суседко ее наказал. Скотина-то она ведь тоже живая – нельзя ее обижать» [Правдивые рассказы… 1993: 30].
в) Использует вещи, оставленные без присмотра Если люди оставляют вещи без благословения, домовой может их использовать: прядет, если оставлена прялка, крадет решето, может взять хозяйскую муку, молоко, если они оставлены без молитвы и креста. Таким образом, домовой не просто так причиняет людям вред, а будто приучает их к порядку, отучает быть жестокими, учить чтить обычаи.
Читать полностью




 ГЛАВА 5. Интегральная система образов в романе
ГЛАВА 5. Интегральная система образов в романе 

 Знаменитое стихотворение И. Бунина “Ангел” (1891), при всей его хрестоматийности, оставлает больше вопросов, чем дает ответов. Прежде всего, неясен сюжет: почему Божье благословение передается чрезвычайным образом, как особое повеление свыше, хотя не из чего не следует, что мальчик — избранник? Как оно связано с райской песнью и райским воспоминанием мальчика? Видит ли улетевшего ангела только мальчик, или же мы должны все наблюдать эту сцену?
Знаменитое стихотворение И. Бунина “Ангел” (1891), при всей его хрестоматийности, оставлает больше вопросов, чем дает ответов. Прежде всего, неясен сюжет: почему Божье благословение передается чрезвычайным образом, как особое повеление свыше, хотя не из чего не следует, что мальчик — избранник? Как оно связано с райской песнью и райским воспоминанием мальчика? Видит ли улетевшего ангела только мальчик, или же мы должны все наблюдать эту сцену?



 Издательство "Bagriy & Company"
Издательство "Bagriy & Company" Книжная серия 32 Полосы
Книжная серия 32 Полосы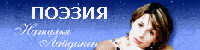 Наталья Лайдинен
Наталья Лайдинен Персональный сайт Татьяны Окоменюк
Персональный сайт Татьяны Окоменюк Союз pоссийских писателей, РРО
Союз pоссийских писателей, РРО

